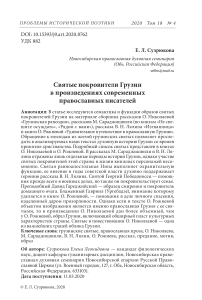Святые покровители Грузии в произведениях современных православных писателей
Автор: Сузрюкова Елена Леонидовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются семантика и функции образов святых покровителей Грузии на материале сборника рассказов О. Николаевой «Грузинская рапсодия», рассказов М. Сараджишвили (по книгам «Не спешите осуждать», «Рядом с вами»), рассказа В. Н. Лялина «Изгнанница» и книги О. Рожневой «Удивительное путешествие в православную Грузию». Обращение к эпизодам из житий грузинских святых позволяет проследить в анализируемых нами текстах духовную историю Грузии со времен принятия христианства. Подробный список святых представлен в книгах О. Николаевой и О. Рожневой. В рассказах М. Сараджишвили и В. Н. Лялина отражены лишь отдельные периоды истории Грузии, однако участие святых покровителей этой страны в жизни книжных персонажей несомненно. Святая равноапостольная Нина выполняет охранительную функцию, ее явление в годы советской власти духовно поддерживает героиню рассказа В. Н. Лялина. Святой Георгий Победоносец - помощник прежде всего в военных делах, но также он покровительствует семье. Преподобный Давид Гареджийский - образец смирения и покровитель домашнего очага. Блаженный Гавриил (Ургебадзе), внимание которому уделяется в книге О. Рожневой, - помощник в деле личного спасения, наделенный даром прозорливости. Однако если в тексте О. Рожневой объектом изображения является именно православная Грузия с ее святыми, то в произведении О. Николаевой дан более объемный, чем у О. Рожневой, образ Грузии, включающий обширный пласт культурных характеристик страны. Святые в повествовании О. Николаевой - одна из важнейших граней облика Грузии.
Грузинские святые, православная проза, о. николаева, м. сараджишвили, в. н. лялин, о. рожнева, рассказ, предание, мотив, образ
Короткий адрес: https://sciup.org/147227224
IDR: 147227224 | УДК: 882 | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8762
Текст научной статьи Святые покровители Грузии в произведениях современных православных писателей
Г рузинская тема в русской культуре открывается в начале
XIХ века книгой «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ея состоянии» митрополита Евгения Болховитинова (1802) [Багратион-Мухранели, 2016: 321]. До сих пор эта тема остается актуальной, о чем свидетельствуют, в числе прочего, и литературные произведения современных авторов.31
История Грузинской Православной Церкви продолжается в течение многих веков: «считается, что Грузия приняла Крещение в 326 г.» [Патаридзе: 194]. Ряд житий особо почитаемых в Грузии святых повествуют о подвижниках именно IV века. Таковы вмч. Георгий, св. равноап. Нина, преп. Давид Гаре-джийский. Интересен тот факт, что ни один из этих святых не был уроженцем грузинской земли, однако принял ее под свое покровительство (св. Георгий и равноап. Нина родились в Каппадокии [Виноградов, 2005: 666], [Чхартишвили: 221], преп. Давид по происхождению сириец [Клдиашвили, Схирт-ладзе, 2005: 419]). «Георгий является самым почитаемым святым в Грузии и вместе с Пресв. Богородицей считается небесным покровителем этой страны» [Абакелия: 676]. Между св. Георгием и св. Ниной, помимо духовных уз, существует и кровное родство. Так, Н. Абакелия пишет: «Просветительница Грузии равноап. Нина завещала посвящать храмы, которые захотят воздвигнуть в ее честь, Георгию, который приходился ей родственником (по одной из версий, двоюродным братом по отцовской линии). По преданию, первый храм, построенный в Грузии в честь Георгия, был заложен <…> в год кончины равноап. Нины (335) на месте ее погребения в Бодбе» [Абакелия: 676]. Преп. Давид получил наименование Гаре-джийский, поскольку вместе с преп. Лукианом стал основателем монашеской жизни в Гареджи [Клдиашвили, Схиртла-дзе, 2006: 590]. Так называется «комплекс пещерных монастырей, протянувшийся на 25 км на склонах хребта Гареджи, в 60 км к юго-востоку от Тбилиси; до ХХ в. один из крупнейших на Кавказе религиозно-культурных центров» [Клдиа-швили, Схиртладзе, 2005: 419]. Названные здесь святые, кроме преп. Лукиана, чаще всего упоминаются в рассмотренных нами текстах современных прозаиков.
В рассказах О. Николаевой «Борьба ангелов» и «Выбор судьбы» повествуется о духовной истории Грузии. Автор обращается к эпизодам из житий святых, связанных с этой страной, а также упоминает прославившихся там православных подвижников. В рассказе «Борьба ангелов» духовная история Грузии берет свое начало с I века:
«Хранительницей Грузии считается сама Царица Небесная — по Преданию, Иверия — это апостольский жребий Матери Божией. После Вознесения Христова, когда апостолы собрались в сионской горнице, чтобы решить, в какую страну идти каждому из них, Дева Мария пожелала принять участие в апостольской проповеди и собралась в далекую страну Иверийскую. Но Господь велел ей оставаться в Иерусалиме и обещал, что жребий Ее не останется всуе. В Грузию отправились апостолы Андрей и Симон, которым она вручила Свой нерукотворный образ для благословения этой страны. И тем не менее в русских и грузинских летописях Иверия называется Уделом Пресвятой Богородицы»1.
Мотивы замены и преемства проповеди, заданные здесь, реализуются в этом же рассказе в повествовании о св. равноап. Нине:
«Есть предание о том, что крест, с которым отправилась святая Нина в далекие земли, был дан ей еще в Иерусалиме Самой Царицей Небесной — две виноградные лозы, сложенные крест-накрест. Как написано у пророка Ездры, из всех растений Господь избрал себе виноградную лозу (см. 3 Езд. 5:23). А пророк Иеремия говорит:
Я насадил тебя как благородную лозу — самое чистое семя (Иер. 2:21).
Лоза — образ евангельского учения. В Грузии оно связано со святой равноапостольной Ниной, которая символически связала и переплела две лозы своими волосами. Этот святой крест и поныне хранится в кафедральном Соборе Сиони» ( Николаева: 11–12).
Лоза — символ Грузии (заметим, что «все три элемента растения — лоза, гроздь и листья — изображены на гербах Грузии и Армении» [Шейнина: 140]) — соединяется с волосами Нины, как и жизнь ее становится неотделимой от истории грузинской земли; она преобразуется в крест — знак христианской проповеди. Следует отметить, что в народной культуре южных славян, как и в библейских текстах, лоза наделяется семантикой святости. К примеру, Т. А. Агапкина и В. В. Усачева приводят словенскую легенду, по которой «человек спасся от потопа, забравшись на лозу, доросшую до неба» [Агапкина, Усачева: 374]. В повествовании о Грузии О. Николаевой лоза также получает сакральное значение, сопряженное уже с новозаветной символикой, но профетически восходящее еще к Завету Ветхому. М. Чхартишвили в «Православной энциклопедии» пишет, что «крест Нины стал символом Грузинской Церкви», а получила его святая «от Пресв. Богородицы, которая явилась <…> [ей] во сне перед <…> отправлением в Грузию — удел Пресв. Богородицы» [Чхартишвили: 222].
Добавим, что в рассказе «Борьба ангелов» упоминается первая грузинская святая. Это блаженная Сидония, «еврейка из Мцхеты, сестра раввина» ( Николаева : 8). Парадоксальным образом она не является грузинкой по крови. Св. Сидония — хранительница христианской реликвии, хитона Господня. О. Николаева включает в текст рассказа предание, сопрягающее начало и конец христианской истории:
«Существует народное предание, по которому во время Второго Пришествия Христа Сидония выйдет к Нему навстречу, держа в руках хитон как свидетельство своей вечной любви, от которой никто и ничто не может отлучить человека, любящего Бога» ( Николаева : 9–10).
Повествование о святых земли грузинской выдерживается здесь в хронологическом порядке, который продолжается в рассказе «Выбор судьбы». Автор вновь говорит о св. Нине, благодаря которой Грузия приняла христианство, а вслед за ней приводит перечень святых, начиная с первого христианского царя Мириана (IV в.) и заканчивая святым Амвросием-исповедником, Католикосом-Патриархом всея Грузии (1927 г.). Таковы хронологические рамки истории святых в Иверии в повествовании О. Николаевой. В заключение рассказа делается вывод, что Грузия — «это земля, предназначенная для явления славы Божией» ( Николаева : 92). Длинный список святых в тексте подтверждает данную мысль.
Отдельный рассказ в сборнике посвящен преп. Давиду Гареджийскому. В тексте «Три камня благодати» дан эпизод из жития св. Давида, связанный с его паломничеством в Иерусалим. То же событие становится предметом изображения в рассказе М. Сараджишвили «Святой Давид Гаре-джийский и Сергей Есенин». Оба текста опираются на житие святого. В рассказе О. Николаевой изложение более сжато и обобщено, чем у М. Сараджишвили, которая описывает эту историю подробнее. Одни и те же участники событий именуются у разных авторов по-своему: «гонцы» (О. Николаева) — «скороходы» (М. Сараджишвили), «Иерусалимский патриарх» (О. Николаева) — «Илия, Патриарх Иерусалимский»2 (М. Сараджишвили). Некоторые детали повествования также разнятся: в рассказе «Святой Давид Гареджийский и Сергей Есенин» преподобный отправляется в путь со спутниками, у О. Николаевой — в одиночку. У М. Сараджишвили св. Давид возвращается с корзиной, а в рассказе «Три камня благодати» — с «рваной сумой» ( Николаева : 107). Смысл истории, произошедшей со святым Давидом, авторы понимают отлично друг от друга. О. Николаева делает акцент на добродетели святого:
«Может быть, сама любовь Давида к Господу была столь велика и горяча, что призвала к себе всю благодать Святого Города» ( Николаева: 108).
Для М. Сараджишвили все случившееся, кроме того, еще и знак чудотворения, по благодати обретенного от Бога святым Давидом, и один из путей Промысла Божьего:
«Бог, <…> видя такое смирение св. Давида, промыслил открыть людям богоподобие смиряющегося чудотворца Давида, избранника Своего»3 ( Сараджишвили , 2015: 68).
О. Николаева вспоминает о преп. Давиде, рассуждая о собственной жизни и любви к России и Грузии:
«Мне, грешной, тоже иногда казалось, что я увожу из Грузии слишком много, и оно продолжает жить уже со мной, в Москве, в России» ( Николаева : 108).
Рассказ О. Николаевой — выражение благодарности Грузии и ее святым, ответный творческий дар за то благое, что было получено в этом благословенном месте.
М. Сараджишвили после истории о св. Давиде Гареджий-ском продолжает рассказ эпизодом из жизни Сергея Есенина, который, следуя обычаю «прикладывать к стене церкви преп. Давида камушки и загадывать что-нибудь» ( Сараджишви-ли, 2015: 69), получил свидетельство, что проживет еще только один год. Завершая текст, повествователь говорит о навеянных чтением советского журнала «Огонек» мыслях:
«Тогда такие факты, наводящие на размышление (Есенин погиб через год <…>) принято было называть “простым совпадением”» ( Сараджишвили , 2015: 70).
Интенция автора здесь очевидна: пробудить у читателя веру в чудо.
Св. Давид упоминается и в повествовании о современниках автора, живущих в Грузии. К нему обращаются с молитвой о даровании детей, и святой помогает (рассказ «Причины бесплодия»). Таким образом, если в тексте О. Николаевой присутствовала семантика благодарности за духовные и душевные дары Грузии в связи с эпизодом из жития св. Давида, то у М. Сараджишвили в рассказе о чудесном рождении детей по молитвам святого актуализируется значение материально выраженных даров — плодов молитвы. Образ плодов семантически перекликается с завершением рассказа О. Николаевой «Три камня благодати», представляющим собою стихотворение «Смоковница». Символ бесплодного дерева восходит к евангельскому тексту (Мф. 21:18–22; Мк. 11:15–19). Митр. Иларион (Алфеев), объясняя значение чуда, случившегося со смоковницей, отмечает, что «отсутствие плодов на дереве является символом духовного бесплодия»4. Продолжая богословское толкование, митрополит пишет: «Те же образы Иисус использует на Тайной вечере, сравнивая Себя со стволом дерева, а учеников с его ветвями»5. В качестве иллюстрации автор приводит фрагмент из Евангелия от Иоанна (Ин. 15:1–2, 5–8), в котором есть образы виноградной лозы, плода и ветвей. Учитывая эту глубинную семантику и связь образа лозы с Грузией, приходим к выводу, что стихотворение О. Николаевой органично встраивается в текст рассказа. Здесь бесплодная лоза под благодатным действием любви и заботы оживает. Семантически этот сюжет перекликается с другой притчей (Лк. 13:6–9), в которой бесплодной смоковнице было дано время на принесение плодов6. Лирическая героиня в рассматриваемом нами стихотворении отождествляет себя со смоковницей, ожившей в Иверии.
В семи из сорока рассказов книги О. Николаевой звучат имена святых покровителей Грузии. И если произведения «Борьба ангелов» и «Выбор судьбы» целиком посвящены обозначенной теме, то в других указанных нами текстах сборника о святых, особо почитаемых в Грузии, вспоминают лишь в определенных ситуациях. В частности, в рассказе «Грузинская Пасха» О. Николаева пишет о национальном обычае провозглашать тосты:
«…первый тост в Грузии — за Господа Бога! Второй тост — за Матерь Божью. Третий — за покровителя Джорджии, св. вмч. Георгия Победоносца. И только потом — за родителей, за предков, за потомков, за друзей…» ( Николаева : 23).
В «Сванской свадьбе» звучат те же тосты. Святые здесь лишь упоминаются. Отдельный же рассказ, посвященный св. Георгию, есть у М. Сараджишвили. Это рассказ «Святой Георгий, покровитель земли Иверской». Повествование сосредоточено здесь на чудесной помощи святого грузинскому народу, как в давние времена, так и теперь. Святой оказывал помощь в военных делах, даровал по своим молитвам к Богу исцеление, помогал устроить семейную жизнь, по его заступничеству рождались дети (здесь деяние святого совпадает с помощью преп. Давида). Со святым Георгием в этом тексте связан образ света: в начале рассказа он спускается с вершины горы как воин в черной бурке и принимает участие в битве против неприятелей грузин, а затем в церкви, во время благодарственного молебна, он «весь осветился необыкновенным светом» ( Сараджишвили , 2015: 55). В другой раз св. Георгий неожиданно «возник весь в сиянии» ( Сараджишвили , 2015: 56) перед вражеской армией и тем спас грузинскую деревню от разорения, а жителей избавил от гибели.
В другом рассказе М. Сараджишвили «Подарок — жизнь» повествуется о Цотне Дадиани — грузинском по происхождению святом ХIII в. Его жертвенный поступок спас соотечественников от смерти: монголам, установившим иго над Грузией в этот исторический период, святой показался «странным человеком, добровольно разделившим страдания приговоренных к пыткам»7. Цотне Дадиани становится примером для грузин. В настоящее время грузинка Нуцу Мепория совершает тот же подвиг, что и святой, за что получает прозвище от внука «мой Цотне Дадиани» ( Сараджишвили , 2016: 139). В общем перечне святых «Грузинской рапсодии» О. Николаевой (рассказ «Выбор судьбы») этот святой представлен как «святой исповедник Цотне Дадиани, правитель Эгриси (Западной Грузии) (ХIII)» ( Николаева : 91).
В рассказе В. Лялина «Изгнанница», в отличие от текстов О. Николаевой и М. Сараджишвили, повествуется о событиях ХХ века, связанных с революцией и установлением советской власти в России и Грузии. Здесь появляется образ святой Нины, чьи мощи хранятся в женском Бодбийском монастыре. Святая явилась героине рассказа — матушке Варваре, пережившей «Иов-ситуацию» («внезапную катастрофу, иррациональную в своих истоках» [Гольденберг: 106]), потерявшей родных, жениха, прежнее социальное положение в результате революции 1917 г. И. С. Леонов связывает «Иов-ситуацию» с «мотивами страдания праведника, потерей и обретением здоровья, семьи, дома» [Леонов: 80]. Варвара отправляется в пешее странствие и приходит в Грузию, в одну из православных обителей. Матушка Варвара остается при храме, в котором хранятся мощи св. Нины. Монахини становятся ее новой семьей, монастырь — домом. Несмотря на то, что физически Варвара не пострадала, ее душевные переживания, несомненно, оказались достаточно серьезными. Видение, посланное матушке, является кульминационной точкой рассказа. Произошло это так:
«Однажды, когда матушка Варвара особенно устала от аптечных трудов и, задумавшись, сидела за свечным ящиком, она внезапно увидела в храме синие вспышки света, переплетающиеся зигзаги молний и медленное неясное просветление церковного пола. Каменные плиты становились прозрачными, как стекло. И перед ее глазами открылось удивительное подполье — усыпальница со стенами, украшенными древней цветной майоликой с цветами неземной красоты, корсунскими крестами и ликами херувимов. На высоком каменном ложе, покрытом ветхой золотой парчой, вечным сном спала святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии и другиня Божией Матери. Нетленная, с бледным прекрасным ликом, с сомкнутыми апостольскими устами, в мантии из голубого виссона, левой рукой прижимающая к сердцу Святое Евангелие, украшенное яркими кроваво-красными лалами, а в правой держащая чудотворный Крест, сплетенный из виноградной лозы — дар Пресвятой Богородицы. Вкруг каменного ложа стояли три высоких золотых светильника с горящими и несгорающими свечами. Из усыпальницы поднимался к церковному куполу и распространялся по всему храму чудный аромат, несказанное благоухание. Затем все стало темнеть, и видение, потускнев, исчезло»8.
Поэтичное описание усыпальницы святой контрастирует в тексте с бедной обстановкой монастыря:
«Келья была маленькая, с глиняным полом, с маленькой железной печуркой посредине, сбитым из досок топчаном, полкой для посуды и висящим на стене под простыней монашеским облачением» ( Лялин : 34–35).
Сумеркам храма противостоит насыщенное яркими цветами и светом описание вечной опочивальни св. Нины. Здесь присутствуют золотой, белый (мертвенно-бледный), голубой и кроваво-красный цвета. Соседство голубого и красного — Богородичных цветов — в изображении святой подчеркивает, что св. Нина приемлет жребий Пресвятой Богородицы — Иверии. Неслучайно поэтому святая именуется в тексте «другиней Божией Матери». Начинается видение с появления вспышек света, а завершается постепенным затемнением зримого. Таким образом, описание усыпальницы насыщено светом, имеет «световую раму». Три вечно горящих свечи рядом с местом упокоения святой также освещают созерцаемое матушкой. Подобное изображение напоминает образы на иконах: «…икона пишется светом и по свету, в иконописных подлинниках фон, как правило золотой, называется светом» [Русские иконы: 62]. И далее: «Золото — цвет и свет одновременно, это сияние Царства Божия и цвет Божественной славы, вечности и Небесного Иерусалима. <…> Белый, как и золотой, тождествен свету» [Русские иконы: 64]. Видение Варвары изобилует светом, а контрастные голубой и кровавокрасный выделяются на общем фоне, как и на иконах.
Образ святой равноапостольной Нины9 указывает на небесное покровительство монахиням женского Бодбийского монастыря в годы безбожной власти, когда «мир православия противостоит атеистическому миру советского общества» [Краснякова: 125], и дает надежду на преодоление духовного кризиса.
В книге О. Рожневой, выстроенной по пространственному принципу, актуализируются традиции жанра хожения, восходящие к «древнерусской литературе как источнику сотерио-логического типа культуры» [Казанцева: 9]. В ней есть глава под названием «Бодбийский монастырь». Это та самая обитель, в котором обрела приют матушка Варвара из рассказа В. Лялина. О. Рожнева пишет:
«В советское время монастырь был снова закрыт и превращен в больницу, но среди персонала трудились две тайные монахини, которые пришли за мощами св. Нины»10.
В рассказе В. Лялина матушка Варвара трудится именно как медицинская сестра — таким образом, семантическая параллель между двумя текстами очевидна.
Чаще других святых в книге О. Рожневой упоминается преподобноисповедник Гавриил (Ургебадзе), с которым связан мотив чуда, восходящий к житийному канону. Сохранилась его нетленная кровь, забытая врачом в пробирке. Так, рассказчик повествует:
«Вспомнил только через четыре года, нашел эту пробирку, проверил в лаборатории и обнаружил, что без всякого холодильника, без какого-либо особенного хранения, кровь святого осталась такой, словно ее только что взяли у живого человека» ( Рожнева : 179).
На могиле преподобного Гавриила сами собой загорелись свечи (что напоминает о чуде на месте погребения святого Глеба в «Сказании о Борисе и Глебе»), мантия святого помогает исцелять больных, после панихиды по еще не прославленному чудотворцу решаются жизненные трудности обращающихся к нему людей.
Заметим то, что в книге О. Рожневой объектом изображения является православная Грузия с ее святыми, тогда как в «Грузинской рапсодии» О. Николаевой дан более объемный, чем у О. Рожневой, образ страны, включающий обширный пласт ее культурных характеристик. Святые в повествовании О. Николаевой — важнейшая (но не единственная) составляющая облика Грузии.
В прозе современных православных авторов наиболее часто и подробно описаны такие святые покровители Грузии, как святая равноапостольная Нина, преподобный Давид Га-реджийский, преподобноисповедник Гавриил (Ургебадзе). Мотив чуда сопряжен с каждым из этих подвижников. Охранительную функцию, как наследница жребия Божией Матери, выполняет св. Нина. Преп. Давид — пример христианского благочестия, молитвенник за семью. Блаженный Гавриил (Ургебадзе) — помощник в деле личного спасения, наделенный даром прозорливости. Святой Георгий Победоносец — покровитель воинов и семьи. Цотне Дадиани является примером жертвенной любви к ближнему.
Святые Грузинской Православной Церкви принимают молитвенное участие в жизни героев книг, они не оставляют без духовной помощи своих нынешних соотечественников и тех, кто почитает их память.
Список литературы Святые покровители Грузии в произведениях современных православных писателей
- Абакелия Н. Георгий, вмч. Почитание в Грузии // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. — М.: Православная энциклопедия, 2005. — Т. X: Второзаконие — Георгий. — С. 676-678.
- Агапкина Т. А., Усачева В. В. Виноград // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 4 т. — М.: Международные отношения, 1995. — Т. 1: А-Г. — С. 482-486.
- Багратион-Мухранели И. Л. Динамика женских образов кавказской лирики и драматургии Я. П. Полонского // Я. П. Полонский: творчество, судьба, эпоха (посвящается 195-летию со дня рождения поэта): сб. науч. ст. по материалам Международной научно-практической конференции, 27-29 мая 2015 года. — Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2015. — С. 187-197.
- Багратион-Мухранели И. Л. Репрезентация Грузии и Кавказа в русской литературе XIX — начала XX века: дис. ... д-ра филол. наук. — М., 2016. — 366 с.
- Виноградов А. Ю. Георгий, вмч. // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. — М.: Православная энциклопедия, 2005. — Т. X: Второзаконие — Георгий. — С. 665-667.
- Гольденберг А. Х. Иов-ситуация у Пушкина и Гоголя // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — Волгоград: Волгоградский гос. пед. ун-т. — 2006. — № 3 (16). — С. 101-107.
- Казанцева И. А. Православная аксиология в русской прозе ХХ-ХХ1 веков: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — Тверь: Тверской гос. ун-т. — 2011. — 35 с.
- Клдиашвили Д., Схиртладзе З. Гареджи // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. — М.: Православная энциклопедия, 2005. — Т. X: Второзаконие — Георгий. — С. 419-423.
- Клдиашвили Д., Схиртладзе З. Давид и Лукиан Гареджийские // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. — М.: Православная энциклопедия, 2006. — Т. XIII: Григорий Палама — Даниэль Ропс. — С. 590-594.
- Краснякова М. С. Современная православная проза: генезис, основные мотивы, типология сюжетов: дис. ... д-ра филол. наук. — Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2016. — 204 с.
- Леонов И. С. Иов-ситуация и ее реализация в современной православной художественной прозе // Русский язык за рубежом. — М., 2013. — № 3 (238). — С. 73-80.
- Патаридзе Л. Грузинская Православная Церковь // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. — М.: Православная энциклопедия, 2006. — Т. XIII: Григорий Палама — Даниэль Ропс. — С. 192-196.
- Русские иконы / ред. группа: Т. Каширина, Т. Евсеева, Е. Сучкова. — М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. — 216 с.
- Чхартишвили М. Нина, равноап. // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. — М.: Православная энциклопедия, 2018. — Т. LI: Никон — Ноилмара. — С. 219-224.
- Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. — М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2001. — 591 с.