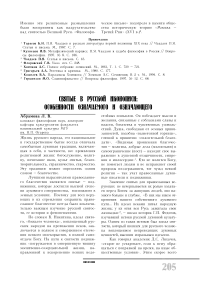Святые в русской иконописи. Особенности означаемого и означающего
Автор: Абрамова Л.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720367
IDR: 14720367
Текст статьи Святые в русской иконописи. Особенности означаемого и означающего
кандидат философских наук, докторант кафедры культурологии факультета национальной культуры[ МГУ им. Н.П. Огарева
Жизнь русского народа, его национальное и государственное бытие всегда отличала самобытная духовная традиция, включающая в себя, в частности, все проявления религиозной жизни: богослужение, молитву, почитание икон, культ святых, благотворительность, странничество, старчество. Эту традицию можно определить одним словом —благочестие.
Лучшими выразителями православного благочестия являются святые — подвижники, которые достигли высшей степени духовного совершенства, возможного в земных условиях. Поэтому для всех верующих в их стремлении сохранить православное благочестие всегда было исключительно важным изучение русской святости, ее истории и феноменологии.
По словам В. Никитина, идеал святого, «божьего человека», воплощенный русским народом на протяжении веков, заключается в полном и совершенном отсечении всякого своекорыстия, в полной самоотдаче Богу. На пути к святости подвижник «погружается в совершенную тишину молитвенно-созерцательной жизни, направленной к искоренению всяких недо- стойных помыслов. Он побеждает мысли и желания, связанные с соблазнами славы и власти, богатства и чувственных удовольствий. Душа, свободная от земных привязанностей, подобна «выметенной горнице», готовой к принятию «спасительной благодати». «Видимые проявления благочестия —молитва, добрые дела (милостыня) и самоограничение (пост) —находят свое выражение в душевной отзывчивости, смирении и милосердии»1. Кто не молится Богу, не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии —так учат православные духовные писатели и подвижники.
Значение святых для православных верующих не исчерпывается их ролью ходатаев перед Богом за живущих людей, оно намного больше и глубже. «В них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути... Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки»2, —писал историк Г.П. Федотов, изучавший истоки русской духовной культуры. Одним из таких истоков был идеал святости, который являлся для русского человека воплощением непреходящих духовных ценностей, высшим моральным идеалом.
Как говорил академик Д.С. Лихачев, «старое не устаревает, если к нему обращаться с поправкой на время, на иные общественные условия». Этим скорее всего
ФИЛОСОФИЯ
объясняется факт обращения верующих к святым через их иконы уже на протяжении двух тысяч лет: в них признаются образцы нравственных идеалов, а нравственное начало всегда было необходимо человеку. Нравственность, как считает Лихачев, «в конечном счете едина во все века и для всех людей»3.
Личное нравственное совершенствование —не самоцель святого. В своей келье, в затворе, в отдалении от людей он преисполнен участия к людям, сострадает им, молится о них, призывая небесную помощь. Примером такого рода служения стала жизнь преподобного Серафима Саровского (1759 — 1833). Он, один из немногих, сумел воплотить в себе идеальный образ удивительно доброго, любящего людей святого. Живя в Саровской пустыни, он принимал на себя различные подвиги —отшельничество, столпничество, молчальничество. Но самым главным его подвигом стало старчество — духовное наставничество приходивших к нему в келью иноков и мирян. Целыми днями он принимал людей, которые шли к нему толпами, порой по тысяче в день. Многих он исцелял, примирял с жизнью, наделял душевным покоем, давал уверенность в жизни.
Преподобный Серафим еще при жизни был любим и почитаем, причислен же к лику святых в 1903 г., через 70 лет после смерти, когда было собрано достаточно много случаев чудотворения, необходимых для канонизации. Его облик, сохранившийся в воспоминаниях современников, отразился на иконах, появившихся сразу же, в год канонизации: округлое лицо с слегка выдающимися скулами, широкий лоб, седые волосы до плеч и небольшая густая, аккуратно подстриженная борода.
Серафим Саровский на всех иконах легко узнаваем благодаря бережно переданному иконописцами портретному сходству лика святого с его изображением. Это достаточно редкий случай, поскольку в основном лики святых писались «по подобию». Если в памяти народа сохранялись какие-то приметы святого —они находили отражение в его иконописном облике, если нет —достаточным считался общий иконописный тип, к которому художник относил того или иного святого. Так, статус святого передается в иконе через конкретные детали, по которым верующий может иденти- фицировать характер его служения. Например, пророки изображаются обычно в 4-м и 5-м рядах иконостаса. Их одежды, как правило, свободные, как это было принято в античном мире. В руках —свитки, символ пророческих книг Ветхого завета. Если же их пророчество соединялось с другим званием, например, царским (Давид, Соломон) или священническим (Самуил), то на иконе могут быть показаны и царская шапка, и мантия.
Апостолов мы также видим в античной одежде. Некоторые из них имеют отличия. Евангелисты —Матфей, Марк, Лука и Иоанн —держат в руках книгу (Евангелие). Апостол Павел —меч как символ его божественных слов, духовной силой разбивающих сомнения и дьявольские соблазны. Апостол Петр согласно Евангелию — ключи. В иконостасе апостолы стоят либо справа и слева от деисуса, либо в отдельном ряду над деисусом.
Святители — общий термин, объединяющий епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов. Изображаются святители, как правило, в епископском облачении —в саккосе и омофоре, с митрой на голове, иногда —в фелонях вместо саккоса (в древности не было еще четкого разграничения между одеждами епископов и священников). Таковы, например, многочисленные иконы святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Царей и князей показывают в княжеских шапках, с мечом в руке, в царской мантии — красной, с горностаевой опушкой. Цари на иконах могут иметь венцы (короны), редко скипетр и державу —символы царской власти. Равноапостольные Константин и Елена —император Византии и его мать — обязательно с крестом. Царица Елена — как нашедшая его в Иерусалиме, а Константин — как утвердивший христианство в империи.
Мученики обычно изображаются в той одежде, которая символизирует их социальное положение или род занятий. Главное в их образах —крест в руках как символ причастности к Кресту Господню. Эта причастность заслужена ими в страданиях — пытках, мучениях и казнях. На иконах в клеймах можно увидеть сами мучения или орудия пыток и казни.
Преподобные —отшельники, пустын- ники, монахи. Их, как правило, изображают в монашеской мантии, иногда в схиме. Некоторые преподобные жили в пустынях и в горах без какой-либо одежды. На иконах они предстают в зеленых набедренных повязках из листьев, с длинными волосами и бородами.
Таким образом, первичными опознавательными знаками для идентификации святого являются его месторасположение в иконостасе, одеяние, характерное для определенной группы святых, свойственная святому атрибутика. Данные признаки условно можно считать общими, присущими ряду святых.
Следующая группа признаков —конкретизирующие. Эти признаки помогают выделить святого из ряда лиц, имеющих аналогичное служение; они касаются главным образом изображения лика святого.
Интересные наблюдения относительно передачи ликов были сделаны В.П. Соколовым. Среди иконописных признаков, по его мнению, на первом месте стоят лицевые признаки возраста: юн, рус, сед. Эти признаки описывают только лицо святого, так как в пропорциях фигуры юноши, взрослого и старого святого иконы разницы не передают. «Юн» —юный святой, молодой; это тип, мало распространенный в древнерусской иконописи. Отличительная черта юных —отсутствие бороды. В некоторых случаях, учитывая данный признак, иконописные подлинники неверно трактуют возраст святого: ведь и пожилой святой мог не иметь бороды. «Рус» — человек среднего возраста; пигментация волос здесь не играет никакой роли. «Сед» — старый святой. Указав на возраст святого, подлинник характеризует форму его волос и бороды: «Кир сед, брада Власьева» (31 января); «Феодор Стра-тилат, власы Георгиевы, брада Христова» (8 февраля); «Андрей Первозванный сед, власы аки у Мины (растрепалися), брада Иоанна Богослова» (30 ноября) и т. д.
Уже по приведенным примерам видно, что все многообразие форм бороды и волос на голове святых сводилось к немногим основным общим формам, типичные обобщения обозначались собственными именами наиболее почитаемых святых, изображение которых было известно всем иконописцам. Остальные же создавались по их образцу, т. е. «по подобию». Сходство типов В.П. Соко- лов объясняет сходством жизни и подвигов представляемых святых при отсутствии с их стороны выдающихся деяний. На наш взгляд, подобный вывод неверен по двум причинам. Во-первых, вызывает большое сомнение существование каких-то правил, касающихся стандартизации причесок в отношении определенной категории святых; иначе бы, например, все апостолы —ученики Христа, распространявшие в разных странах христианство, —имели на иконах одинаковые по длине волосы и бороды, чего мы не наблюдаем. Во-вторых, иконы передают некоторые природные особенности волос (например, кучерявость), которые нельзя объяснить «сходством жизни» святых, их имеющих. Нельзя признать верным и мнение И.В. Покровского, которое приводит В.П. Соколов: «Нам кажется, что явление это объясняется не тем, что святой Митрополит Филипп в действительности походил на святого Николая, но сходством их личного характера»4. Характер может иметь отражение в выражении лица, взгляде глаз и т. п., но эти моменты не передает иконопись, являясь условным, а не реалистичным письмом.
С нашей точки зрения, форма волос и бороды —личностные характеристики, которые скорее всего были лишь необходимым средством типизации для облегчения ориентировки иконописцев в огромном количестве святых и не имели под собой (за редким исключением) никаких реальных оснований. Иное дело — специфическое одеяние святых: оно, несомненно, является тем признаком, который помогает определить социальный или церковный статус святого, а также служит показателем подвига, совершаемого ради Христа.
Как указывалось выше, идеал святого заключается в совершенном отрицании всякой корысти, в полной самоотдаче Богу. «Святость вырисовывается как высшая прочность, неистребимая вечность и совершеннейшая красота... Вот почему в ней прославляются и сияют неожиданным блеском как красивые, так и уроды, как целые, так и калеки, как здоровые, так и больные, как юродивые, так и гении»5, — писал В.Н. Ильин. Эта цитата как нельзя лучше показывает, что святые обладали духовным совершенством, физическая же сторона их облика не имеет существенного значения. Отсюда — типизация и услов- ность изображения отдельных категорий святых. Так, юродство в иконописи представлено образоми конкретных людей, будь то известные всей Руси Прокопий Устюжский, Николай Кочанов, Василий Блаженны 1 й и др. или же юродивые, знакомые жителям небольшой местности. Все они, безусловно, имели свою биографию, внешность, характер, время и место жительства и т. д. Но достаточно лишь некоторых особых характеристик внешнего облика, одежды, нередко совпадающих по своему описанию, чтобы отнести их к данной социально-психологической группе.
Для иллюстрации приведем примеры из подлинника XVIII в., которые упоминаются Ф.И. Буслаевым в его «Исторических очерках русской народной словесности и искусства».
«Прокопий Юродивый, устюжский чудотворец, подобием средовек, волосы на голове русы, борода Козьмина; риза на нем дикобагряная, с правого плеча спустилась; в руках три кочерги; на ногах разодранные сапоги, колени голы. Он имел обычай ходить по городу только в ветхой, рубищной и разодранной одежде, полуна-гой, зимою мороз и снег, летом же солнечный зной претерпевая. Рубище же носил с одного плеча спущено, и плечо имел обнаженное, готовое на раны. В левой руке носил три кочерги; и в которое лето держал их головами вверх, тогда бывало изобилие хлеба и всяких плодов земных; а когда обращал их головами вниз, тогда бывала скудость и неплодие (июля 8 дня).
<...> Иоанн Юродивый, устюжский чудотворец, подобием молод, борода только расти зачала, в наусии; волоса просты; риза на нем разодранное рубище, исчерна бело, извилося по нем; плечо голо, также и ребра голы и ноги, выше коленей. В Прологе сказано: пребывал наг, имея на себе только разодранное рубище, а когда случалось ему ходить и в сорочке, то бывала она ветхая и никогда немытая (мая 29 дня)»6.
Как видно из предлагаемого иконописцам описания изображения, в подлиннике даются лишь самые общие указания относительно облика юродивых; означаемому и означающему в передаче внешности свойственно «подобие», а не идентичность. Окружающая обстановка не определяется, время —не конкретизируется. Но подчеркиваются общие для всех юродивых моменты — их ориентировка на духовную, а не материальную жизнь, пренебрежение материальными благами, особый образ жизни, близкий к аскетическому. Поэтому юродивые на иконах обычно показываются истощенными, в ветхой, разодранной одежде.
Таким образом, одни внешние характеристики определяют церковный статус, социальную группу, к которой относился святой (местоположение в иконостасе, одеяние, атрибуты), другие — суживают типизированные изображения до небольших групп (борода, волосы). Но для окончательной идентификации святого требуется еще один момент —надпись, сообщающая его имя. Она позволяет рассеять сомнения верующих, смотрящих на икону, относительно изображенного святого. Кроме того, имя играет еще одну не менее важную роль: оно связывает первообраз с образом. «Именно вследствие «подобия» иконы первообразу она получает его имя, а через это «находится в общении с ним»7, — пишет В.В. Бычков, раскрывая суть взглядов участников VII Вселенского собора на возможность и необходимость иконопочитания.
Все три указанных момента в репрезентации святого (общие, конкретизирующие признаки, надпись) дают возможность провести его полную идентификацию.
Список литературы Святые в русской иконописи. Особенности означаемого и означающего
- Никитин В. Русское благочестие и святость/В. Никитин//Малая церковь. Настольная книга прихожанина. М„ 1992. С. 105
- Федотов Г.П. Святые Древней Руси/Г.П. Федотов. М., 1990. С. 27
- Лихачев Д.С. [Вступ. ст.]//Федотов Г.П. Святые Древней Руси М, 1990. С. 5
- Соколов В.П. Язык древне-русской иконописи/В.П. Соколов. Казань, 1916. 4.2. С. 6
- Ильин В.Н. Иночество и подвиг/В.Н. Ильин//Путь. 1926. № 4. С. 75
- Буслаев Ф.И. Подлинник по редакции XVIII века//Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 2. С. 428
- Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы/В.В. Бычков. М., 1994. С. 52-53