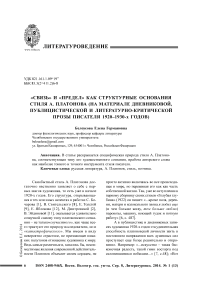«Связь» и «предел» как структурные основания стиля А. Платонова (на материале дневниковой, публицистической и литературно-критической прозы писателя 1920-1930-х годов)
Бесплатный доступ
В статье раскрывается специфическая природа стиля А. Платонова, соответствующая типу его художественного сознания, и работа авторского слова как наиболее тонкого и точного инструмента стиля писателя.
Русская литература, а. платонов, стиль, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14975278
IDR: 14975278 | УДК: 821.161.1.0919
Текст научной статьи «Связь» и «предел» как структурные основания стиля А. Платонова (на материале дневниковой, публицистической и литературно-критической прозы писателя 1920-1930-х годов)
Самобытный стиль А. Платонова достаточно явственно заявляет о себе с первых шагов художника, то есть уже в начале 1920-х годов. Его структура, открывающаяся в тех или иных аспектах в работах С. Бочарова [1], В. Свительского [8], Е. Толстой [9], Е. Яблокова [12], М. Дмитровской [2], В. Эйдиновой [11], оказывается удивительно созвучной самому типу платоновского сознания – не только«соучастного», как чаще всего трактуют его природу исследователи, но и «катастрофического». Мы имеем в виду невероятно страстное, не признающее никаких полутонов отношение художника к миру. Ведь самые различные и, казалось бы, несовместимые явления современной действительности Платонов объемлет своим сердцем, не просто активно включаясь во все происходящее в мире, но переживая его как как часть собственной жизни. Так, уже во вступлении к первому сборнику своих стихов «Голубая глубина» (1922) он пишет: «...кроме поля, деревни, матери и колокольного звона я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу» [6, с. 487].
А в публицистике и дневниковых записях художника 1920-х годов эта удивительная способность платоновской личности жить в постоянном напряжении всех душевных сил проступает еще более решительно и откровенно. Например: «...искусство – такая бесконечная радость, такой гимн восторга под склонившимися небесами...» [7, с.48]; «Вот что самое страшное в человеке – когда его люди не интересуют и не веселят <...>, когда он погружен весь в свою томящуюся душу» [3, с. 556]; «Страсть к познанию все больше, все мучительнее разгорается в человечестве» [7, с. 142] и т. д. Не менее ощутимо она сказывается и в названиях его художественных произведений: «В прекрасном и яростном мире», «Счастливая Москва», «В звездной пустыне», «Великий человек», «Высокое напряжение» и др.
Подобного рода коррективы, внесенные в человеческий и писательский образ А. Платонова, существенным образом углубляют традиционные представления о стиле художника, открывая в нем другую, неразрывно связанную с первой («связующей») и во многом вытекающую из нее черту. Мы имеем в виду необычайно драматическую , более того, откровенно нарастающую в своем драматизме сущность платоновского стиля, которая придает ему уникальное звучание в ряду столь ярких стилевых образований рубежа 1920–1930-х годов, как, например, стили И. Бунина или М. Горького.
Иными словами, перед нами стиль, максимально устремленный к контактам, встречам, связям, и в этой своей устремлен-ностиоткрывающий труднейший, на пределе всех сил и возможностей, характер движения человека навстречу другому (миру или человеку).Причем наиболее зримо свою уникальную сущность он обнаруживает именно в слове Платонова. Ведь специфическое «чувствование мира» этого автора, как справедливо замечает М. Дмитровская, «показывает себя не с помощью языка, а через язык » [2, с. 3].
Еще с большей силой мотив родства (магистральный для всего творчества писателя) звучит в публицистике Платонова 1920-х годов, проявляя братское, отцовское, то есть неразрывно-тесное и чрезвычайно страстное отношение писателя к миру. Например: «Мы роднимся со всем, что казалось нам хаосом, мы убеждаемся, что вокруг нас лишь братья, любящие и ждущие нашего привета и ласки, нашего внимания» [7, с. 43]; «Она [машина – Е.Б.] не только брат наш, она равна человеку, она его живой удивительный и точный образ» [7, с. 61] и т. п.
Не менее активно в ранних текстах Платонова складывается и ряд слов, выражающих антиидеальное в его специфическом восприятии состояние мира. Так или иначе они несут в себе семантику отдельности, отчуждения человека от мира и других людей – тот смысл, который позже в своей максимальной концентрированности, столь органичной для личности художника, найдет воплощение в образах «круглого сироты», «сироты земного шара», ставших лейтмотивами всего его творчества. А пока мы видим только поиски этого крайне важного для Платонова слова, точ-нофиксирующего противоположное состояние человеческого бытия и совершенно иное, но столь же крайнее его переживание автором: «...наступила пора разделения, разъединения, распадения людей внутри общества» [7, с. 40]; «горе ограниченной жизни».
А вот еще несколько фрагментов (на этот раз из писем и записных книжек художника), которые показывают, как мучительнодля писателя состояние одиночества, оторванности от другого человека. Глубоко трагической нотой оно звучит, например, в платоновских письмах к жене: «...Какая жестокая и бессмысленная судьба – на неопределенно долгое время оторвать меня от любимой» [3, с. 556]. Не менее остро переживает Платонов и свою вынужденную «отдельность» от рабочего класса, о чем пишет Горькому в самое трудное для себя время – время категорического неприятия издателями и критиками его «Чевенгура»: «...Быть отвергнутым своим классом и быть внутренне все же с ним – это гораздо более мучительно, чем осознать себя чуждым всему, опустить голову и отойти в сторону» [4, с. 178]. Наконец, в записных книжках художника конца 1930-х годов мы обнаруживаем фрагмент, открывающий всю бездну его страдания по поводу своего невольного изгнания из всеобщего бытия: «Трагедия оттертости, трагедия “отставленного”, ненужного, когда строится блестящий мир, трагедия “пенсионера” – великая мука» [7, с. 581].
Как видим, слово Платонова решительно обнажает и сущность изображаемого явления, и авторское отношение к нему, стремясь к предельной, поистине «безостаточной» их выраженности. Однако еще решительней оно сдвигает «крайние лексические точки» и означаемые ими «полюса» платоновской реальности. С особой убедительностью подобная формотворческая установка реализуется, на наш взгляд, в следующих фрагментах публицистической прозы Платонова: «В нем [Ленине – Е.Б.] сочетаются ясный, всеохватывающий, точный и мощный разум с нетерпеливым, потому что слишком много любящим, истинно человеческим сердцем. И все это сковано единой сверхчеловеческой волей <...>» [7, с. 44]. Или: «Наука и искусство в своих высших состояниях совпадают, и они там есть одно», – и далее: «Чем выше, тем ближе они, эти линии, сходятся и, наконец, на неимоверной высоте они совпадают в одной точке, как две стороны угла совпадают в вершине» [8, с. 194, 195].
И все же не только лексические «полюса» открывают нам «связующе-драматическую», «предельную» сущность стиля А. Платонова. Не менее зримо она проступает в синтаксическом строе его текстов. В частности, довольно активно для выражения своей мысли художник использует пред- ложения-определения, утверждающие непременную связь далеких друг от друга понятий: «Нивы – станки, крестьяне – рабочие»; «Каждая новая машина – это настоящая пролетарская поэма» и т. п. Однако еще чаще в публицистической прозе писателя тех лет мы встречаем конструкции синтезирующего характера, которые не просто сближают различные явления, но декларируют их буквальное тождество. Приведем лишь некоторые из них: «Он и восставший побеждающий народ – это одно» [7, с. 45]; «Человек и труд – одно» [7, с. 61]; «И женщина знает, что мир и небо и она – одно» [7, с. 68].
Особого внимания в этом плане заслуживает фрагмент из статьи «Луначарский», где авторская мысль о сопричастности всего сущего получает максимально заостренное звучание: «Социалистическое воспитание и имеет такую цель и такой смысл слить все враждебные, беспорядочные силы человечества в один поток, в одну струю, дать им один путь и одну общую цель, увеличить их мощь , из ручейков и рек, текущих туда и сюда, будет один океан» [7, с. 70]. И происходит это благодаря целенаправленному повтору ключевого слова, которое проявляет один из доминантных принципов платоновского стиля. Речь идет о принципе градации, нагнетания, нарастания, превращающем творимую художником форму в форму высочайшего напряжения, кульминации, «последней черты» , в чем мы имеем возможность неоднократно убедиться. Например: «Возрождая всю жизнь, трудовой класс возрождает и искусство как самое дивное, самое красивое, самое могущественное проявление растущей жизни» [7, с. 39]. Или: «В тишине засветившейся нежности матери женщины погибают миры со всеми солнцами. Восходит новый тихий свет единения и любви, слившихся потоков всех жизней, всех просветившихся существ» [7, с. 67] и т. п.
Вместе с тем в приведенных выше текстовых фрагментах, где наряду с соотнесенностью различных жизненных начал автор акцентирует и их взаимопревращаемость, обнаруживается еще один принципиальный аспект художнического видения Платонова, созвучный и строю его личности, и самой революционной эпохе. Вслед за В. Чалмаевым назовем его «теургическим беспокойством» [10, с. 17], или жаждойпересотворения мира. Дело в том, что целостность бытия не является для художника данностью современного существования, скорее, это образ иной – грядущей, преображенной действительности. И платоновские тексты начала 1920-х годов со всей очевидностью открывают нам острейшее переживание трудного рождения «одного» из «другого», то есть сам процесс обретения миром своего единства и не менее драматичное вхождение в этот мир человека, собирающего в своем сознании и душе различные его грани.
Отсюда столь характерные для раннего Платонова мотивы мучительного рождения новой жизни, трудного взаимодействия и взаимопревращения явлений , отмеченные В. Эйдиновой [11, с. 223–224]. Они существенно раздвигают структуру его стиля в силу акцентирования не столько «связующего», сколько именно «предельного» его качества: «Вся его [Ленина – Е.Б.] душа и необыкновенное чудесное сердце горят и сгорают в творчестве светлого и радостного храма человечества на месте смрадного склепа, где жили – не жили, а умирали всю жизнь, каждый день, гнили в мертвой тоске наши темные загнанные отцы...» [7, с. 44]. А вот еще один фрагмент, где авторская мысль о конфликтном вырастании одних жизненных сил из других, на наш взгляд, воплощается с максимальной выразительностью: «Мы взорвем эту яму для трупов – вселенную, осколками содранных цепей убьем слепого дохлого хозяина ее – бога, и обрубками искровавленных рук своих построим то, что строим, что начинаем только строить теперь...» [7, с. 42].
При этом заметим, что дерзкое своеволие молодого художника, посягающего на права Бога, меньше всего мы склонны рассматривать как «голое» отрицание настоящей жизни. Наоборот, нам слышится в нем самая искренняя и невероятно мощная нота личной ответственности за ход истории, за судьбу всего человечества, то есть проявление уже отмеченного нами пафоса родственного отношения к миру, свойственного личности Платонова. Им освещены и его необыкновенные проекты по «размораживанию» Сибири, и ве- ликие мечты о победе над царством зноя – пустынями Гоби и Сахара, и не менее грандиозные эстетические представления писателя, своеобразие которых раскрывают его литературно-критические статьи означенного периода.
Все мысли и чувства Платонова сосредоточены в них на рождении нового пролетарского искусства, которое осуществляется столь же мучительно, как и рождение нового мира: «Мы растем из земли, из всех ее нечистот , и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся <...>, мы упорно идем из грязи ... В этом наш смысл, из нашего уродства вырастет душа мира » [6, с. 489]. Эти чрезвычайные обстоятельства определяют те сверхзадачи, которые с присущей ему неистовостью писатель ставит перед современным искусством.
В первую очередь он призывает художника «перерасти свои телесные личные силы», свое отдельное «Я», что позволит ему передать мир «во всей его бесконечности, во всемпереливчатом разнообразии и многокрасочности...» [7, с. 39], то есть в его осуществляющейся целостности («К начинающим пролетарским поэтам и писателям»). При этом высшее назначение подлинного искусства, как это следует, например, из другой статьи Платонова («Пролетарская поэзия») заключается все же не в том, чтобы просто изобразить преображение действительности, а в том, чтобы отдать ему все силы, то есть стать средством и инструментом этого преобразования. И вновь само стилевое «говорение» художника, последовательно возвышающее явления труда и производства до явлений творчества («машины – наши стихи»; электрификация – «первый пролетарский роман»; «труд над изменением природы – пролетарская, четкая, волнующая проза»), оказывается самым прямым и действенным подтверждением неукоснительного движения автора к заветной цели.
Не менее показательны в этом плане и те литературно-критические работы Платонова, где раскрывается его рефлексия по поводу произведений других писателей – романа Ю. Крымова «Танкер Дербент», рассказов А. Грина и др. Их смысловой и эмоциональной доминантой неизменно остается пла- тоновская жажда видеть предельную соотнесенность искусства с действительностью, которая в понимании художника является определяющим критерием его эстетической ценности. Именно поэтому В. Маяковский в изображении А. Платонова («Размышления о Маяковском») предстает не только величайшим мастером художественного слова, но и «мастером большой всеобщей жизни».
Таким образом, литературно-критическая проза А. Платонова 1920–1930-х годов окончательно приводит нас к пониманию мощно чувствующей природы его стиля, являющего себя одновременно и формой, и способом уникального авторского освоения мира – инструментом чрезвычайно трудного преображения и родственного собирания-самых различных (часто спорящих между собой)сторон бытия, требующего от художника предельной отдачи, а значит, усиления и даже превозможениявсех сил и возможностей. Эта форма проявляет глубоко гуманистические основы миропонимания писателя, самой своей поэтикой (не просто страстной, авосходящей к самым крайним точкам душевного состояния личности) утверждающего идеал особого, обращенного к человеку мироустройства. Что же касается публицистических статей Платонова, то, далеко не совершенные в эстетическом плане, они со всей очевидностью показывают, как рано приходит к нему осознание «связующедраматической» природы его стиля, который, при всей своей динамичности и изменчивости, отличается весьма ощутимой устойчивостью, неизменно сохраняя ориентированность на конфликтно-сопрягающее осмысление действительности. Не случайно в записных книжках Платонова так настойчиво повторяется мысль о верности художника самому себе: «Мои идеалы однообразны и постоянны» [3, с. 555]; «...Я не гармоничен и уродлив – но так и дойду до гроба, без всякой измены себе» [3, с. 555].
Список литературы «Связь» и «предел» как структурные основания стиля А. Платонова (на материале дневниковой, публицистической и литературно-критической прозы писателя 1920-1930-х годов)
- Бочаров, С. Г. «Вещество существования» (выражение в прозе)/С. Г. Бочаров//Андрей Платонов: мир творчества. -М., 1994. -С. 10-46.
- Дмитровская, М. А. Язык и миросозерцание А. Платонова: автореф. дис.... д-ра филол. наук/М. А. Дмитровская. -М., 1999. -50 с.
- Платонов, А. Государственный житель: Проза, письма/А. Платонов. -М., 1988. -608 с.
- Платонов, А. «Мне это нужно не для славы...» (Письма М. Горькому)/А. Платонов//Вопросы литературы. -1988. -№ 9. -С. 174-183.
- Платонов, А. Размышления читателя: литературно-критические статьи и рецензии/А. Платонов. -М.: Сов. писатель, 1980. -287 с.
- Платонов, А. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3/А. Платонов. -М.: Сов. Россия, 1985. -574 с.
- Платонов, А. Чутье правды/А. Платонов. -М.: Сов. Россия, 1990. -464 с.
- Свительский, В. А. Конкретное и отвлеченное в мышлении А. Платонова-художника/Свительский, В. А. Андрей Платонов вчера и сегодня: статьи о писателе/В. А. Свительский. -Воронеж: Полиграф, 1998. -С. 106-123.
- Толстая, Е. Д. О связях низших уровней текста с высшими//Толстая, Е. Д. Мирпослеконца: работы о русской литературе ХХ века/Е. Д. Толстая. -М.: РГГУ, 2002. -С. 227-271.
- Чалмаев, В. А. «Живое время, весь я твой...» (В мире публицистики Андрея Платонова)/В. А. Чалмаев//Платонов, А. Чутье правды/А. Платонов. -М.: Сов. Россия, 1990. -С. 5-34.
- Эйдинова, В. В. К творческой биографии А. Платонова (по страницам газетных и журнальных публикаций писателя 1918 -1925 годов)/В. В. Эйдинова//Вопросы литературы. -1978. -№ 3. -С. 213-228.
- Яблоков, Е. А. О типологии персонажей Платонова/Е. А. Яблоков//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -М.: ИМЛИ РАН, 1994. -С. 194-203.