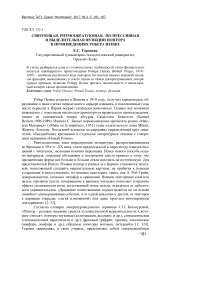Связующая, ритмообразующая, экспрессивная и выделительная функции повтора в произведениях Робера Пенже
Автор: Торопова Елизавета Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье разбирается одна из отличительных особенностей стиля французского писателя швейцарского происхождения Робера Пенже (Robert Pinget, 1919-1997) - изобилие различного вида повторов. Во многом именно широкий диапазон функций, выполняемых в тексте одним из самых распространенных литературных приемов, позволил Роберу Пенже придать законченность и неповторимый колорит своим произведениям.
Робер пенже, новый роман, повтор, функция
Короткий адрес: https://sciup.org/146278351
IDR: 146278351 | УДК: 821.133.1
Текст научной статьи Связующая, ритмообразующая, экспрессивная и выделительная функции повтора в произведениях Робера Пенже
Робер Пенже родился в Женеве в 1919 году, получил юридическое образование и даже сделал первые шаги в карьере адвоката, в послевоенные годы после переезда в Париж всерьёз увлёкался живописью. Однако всё изменило знакомство с известным писателем-драматургом ирландского происхождения, одним из основателей театра абсурда Самюэлем Беккетом (Samuel Beckett,1906-1989). Именно С. Беккет порекомендовал прочитать роман «Маю, или Материал» («Mahu ou le matériau», 1952) главе издательского дома Minuit, Жерому Лендону. Последний всячески поддерживал определённый круг писателей, объединённых критиками в отдельное литературное течение с говорящим названием «Новый Роман».
Революционные идеи перестроения литературы, распространившиеся во Франции в 50-е гг. XX века, стали предпосылкой к пересмотру взаимоотношений с читателем, эволюции понятия персонажа. Поиск нового способа подачи материала, описания обстановки и построения текста привело к тому, что прозаическая форма всё больше и больше стала походить на поэтическую. Для представителей Нового Романа повтор в разных его формах становится находкой, позволяющей создавать выразительные картины, не прибегая к помощи устаревших и искусственных, по мнению некоторых, таких, как А. Роб-Грийе, новороманистов, сложных метафор и сравнений. Именно повторение слов или целых отрывков текста, возвращение к важным эпизодам позволяет сохранить эффект спонтанности речи, естественный поток мысли, отказаться от избыточного украшательства. «Движение повествования осуществляется не на основе линейного разворачивания событий, а от одной аналогии к другой, от повторов к вариации (нередко слегка изменённой) или даже простым многократным повторением» [2: 52].
Согласно словарю литературоведческих терминов С.П. Белокуровой, «Повтор – родовое название средств художественной выразительности, к которым относят: повторы звуковые (аллитерация, ассонанс и др.), синтаксические (синтаксический параллелизм и др.), фразовые (рефрен, припев), лексические (анафора, эпифора и др.), образные (повторы мотивов, ситуаций)» [1: 124]. Термин «вариация», в свою очередь, представляет собой «видоизменённое - 181 - воспроизведение 1) тематического или сюжетного элемента текста; 2) структуры чужого текста, в особенности его стилистики» [цит. раб.: 124].
Отталкиваясь от этих определения, разберём на примерах характерные особенности письма французского писателя. Эффект ритмичности прозаической фразе Пенже придают многочисленные труднопереводимые ассонансы и аллитерации: «Бармен его спрашивает: «С лимонной цедрой?» Он отвечает: «С сифоном Педро» [8: 7]. Кроме того, широкое использование назывных предложений, характеризующихся эмоциональностью и ёмкостью содержания, то и дело повторяемых в одинаковых комбинациях по нескольку раз, создаёт зачастую то или иное настроение, в зависимости от общей эмоциональной окрашенности произведения, будь то гнетущая тоска, иронический смех или разрывающие сердце переживания. В «Пассакалье» («Passacaille», 1969) Пенже с помощью всего трёх односложных предложений передаёт идею тотальной тишины и одиночества: «Серость. Тишина. Никакого волнения» [13: 7].
Робер Пенже не ограничивается одним видом повтора, но умело вплетая этот приём в общую канву повествования, раскрывает его безграничный потенциал на всех уровнях языка и с самых неожиданных сторон. Для представителя «школы взгляда» писавшего, однако, по его собственному признанию, для слуха, звукопись играла не последнюю роль. Естественно, такое понятие как ритм во многом определяет форму и содержание написанного. «Без ощутимого ритма нет и стиля» [14: 163] – замечает новороманист, плодотворно работавший с жанром романа, но не скрывавший своего пристрастия к поэзии.
По поводу того, можно ли назвать ритм свойством прозаической формы, до сих пор ведутся пространные дискуссии. Большинство учёных считают, что ритм наиболее заметен в поэзии. Академик В.М. Жирмунский отмечает, что отсутствие метрических закономерностей в прозаической речи восполняется за счёт вторичных признаков ритмичности слова, а именно за счёт наличия «повторения начальных, сочинительных или подчинительных союзов, других форм анафоры и подхватывания слов, грамматико-синтаксический параллелизма соотносительных конструкций, наконец – наличия нерегулярных звуковых повторов, а также в некоторых случаях тенденции к выравниванию числа слов, слогов или ударений и к отбору окончаний определённого типа» [3: 107]. Проанализировав ряд произведений Робера Пенже, можно сделать вывод, что сбивчивый ритм прозаической фразы отбивается особенно чётко именно в отрывках, где новороманист применяет различные разновидности повтора на разных уровнях языка. Даже формату пьесы писатель добавляет определённое ритмичное звучание. Наглядным примером применения так называемого «подхватывания слов» послужит следующий пример: «…Я продаю. Продал его комнату. Эти занавески, что он ненавидел. Все из-за занавесок…» [11: 22]. Читатель непроизвольно сделает паузы после каждого предложения, как если бы он сам произносил эти слова. Интонировать таким образом значит внести атмосферу задумчивости, добавить грусти и интриги в смысл произносимого. Даже вне контекста, а в данном случае не зная предыдущей реплики пространного диалога, затянувшегося на сотню страниц, можно догадаться, что речь идёт о потере близкого человека. Это всего лишь один из многих примеров использования повтора для создания ритма и эмоционального фона.
Ритмообразующая функция повтора проявляется как на фонетическом и лексическом, так и на морфологическом уровне и в синтаксисе. Чередование морфем помогает создавать плавные переходы от одной аллитерации к другой, соединить отдельные каламбуры или поставить точку в целой череде рассуждений, носящих философский оттенок: «Я и моя грязь, у нас есть король. Я имею в виду грязь моего разума. Потому что у меня есть разум. Разум замусоренный» [5: 7].
Что касается синтаксического строя, в целом Робер Пенже тяготеет к односложным простым предложениям. Иногда идея просто не вписывается в границы такого упрощённого синтаксиса и выражается в двух-трёх подряд идущих предложениях. Зачастую слово, которым завершалось предыдущее предложение, автоматически становится первым последующего. Фигура ана-диплосиса выполняет в таком случае уточняющую функцию, давая возможность автору развить мысль, дать пояснение неоднозначному понятию: «О свобода! Свобода – это отсутствие идей» [5: 8]. Синтаксические конструкции не отличаются особым разнообразием, вторя одна другой:
«Говорят, что он…был учителем.
Говорят, что он пишет мемуары.
Говорят, что он закончит свои дни в больнице для умалишенных» [10: 18].
Несмотря на внешнюю простоту, писателю удалось в трёх фразах рассказать жизнь человека творческого, его забытое прошлое, запутанное настоящее и трагическое будущее, воспользовавшись связующей функцией повтора, подчиняющей отдельные отрезки текста единой идее, и последовательно изменяя время глагола.
Приём использования связующей функции повтора встречаем мы в романе «Апокриф» («L’Apocryphe», 1987). По ходу повествования то и дело читатель натыкается на таинственные «Пять шагов, десять шагов» или инверсию «Десять шагов, пять шагов». К середине романа выясняется, что это вовсе не заклинание, а составные части особого ритуала поиска вдохновения. «Хозяин между двумя отрывками выходит прогуляться в кукольный садик, по аллее засыпанной гравием между четырьмя самшитами» [10: 43]. Здесь он проводит львиную долю времени, пережёвывая одни и те же мысли. «Пять шагов от одного самшита до другого, десять шагов до следующего, а потом ещё пять и ещё десять, полный оборот и всё сначала» [там же]. Дневник его постепенно наполняется записями и каждый раз, когда он испытывает затруднение при формулировании фразы или не решается закончить начатую мысль, хозяин выходит в сад, и в этот момент разум его занят лишь подсчётом шагов в то время как подсознание бьётся в поисках решения очередной проблемы его текста.
Робер Пенже использует и варьирование, являющееся одной из разновидностей повтора. Многократный повтор Робер Пенже сопровождает варьированием, заменяя или опуская отдельные составляющие высказывания, меняя члены предложения местами. В книге-интервью «Робер Пенже по буквам» («Robert Pinget à la lettre», 1995) новороманист поясняет, какую важную роль играет фигура повторения в его творчестве: «Эти повторы, варьирования, повторюсь, как припев в песне, или как рифма в стихотворениях» [14: 261].
Интересное предположение о назначении вариаций в тексте Робера Пенже предлагает в своем эссе швейцарский ученый Лоран Адер. В качестве примера он приводит развёрнутый анализ видоизменения двух простых предложений, вводящих читателя в курс происходящего в маленьком городке на момент начала повествования романа «Сынок» («Le Fiston», 1959): «Дочь сапожника померла. Похороны были в этот четверг» [9: 8]. Автор приводит несколько вариантов изменения этих фраз: c заменой имени собственного, замещением временных указателей или их опущением. Всякое изменение связано, прежде всего, с тем, что право голоса предоставляется вновь появившемуся персонажу. В данном примере вариация способствует развитию сюжета, его обогащению и созданию эффекта протяженности во времени. Захватывающий сюжет, как правило, не был свойственен стилю Робера Пенже, поэтому даже незначительную вариацию можно рассматривать в качестве действенного композиционного приема. Л. Адер пространно подытоживает сказанное выше: «Повторение здесь чётко выражает тождественность и различность, общность и своеобразие, единство и множественность, таким образом, как если бы оно создавало подлинное множественное единство, где Один не господствует над Множеством, но принимает его форму» [4: 247]. Робер Пенже добивается полифонического звучания своего текста: разные люди в разное время, по-разному твердят одно и то же. Но никто не решится, в конечном итоге, утверждать, что все эти фразы не родились в одной голове, голове самого рассказчика.
Следующий пример многократно повторяющейся анафоры доказывает взаимосвязанность всех произведений Робера Пенже:
«На странице такой-то горничная гостит у племянницы.
На странице такой-то труп на коврике перед кроватью.
На странице такой-то он закрывает папку.
На странице такой-то она увозила ребенка, а хозяин просыпался от кошмарного сна.
На странице такой-то он снова встречал Тео на кладбище сидящего перед чемоданом и перебирающего одну за другой пачки газетных вырезок в поисках тем для сочинений» [6: 89–90].
Единожды упомянув конструкцию «На странице такой-то» ещё на шестьдесят третьей странице романа «Этот крик», новороманист открывает череду повторов возвращением к ней на восемьдесят третьей странице, наконец, составляя целую цепочку анафор на восемьдесят девятой странице. В масштабе всего творчества Робера Пенже данный повтор несёт особое значение, акцентируя внимание на центральных мотивах, сквозных персонажах и типичных сюжетных ходах французского писателя.
Безымённая горничная из «Пассакалии» походит на свою коллегу Марию из «Некто», время от времени покидающую обитель престарелых неудачников, забытых их семьями, чтобы отправиться к племяннице. Характерно, что господин Сонж, прообразом которого называли самого Робера Пенже, как и хозяин особняка из романа «Враг», старались поддерживать отношения именно с сестрами и их дочерьми.
В этих строках зашифрованы сразу несколько заголовков книг Робера Пенже, причём как написанных ранее года издания «Этого крика», так и - 184 - намного позднее его выхода в свет. Речь идёт как о романе «Клоп в деле» (Clope au dossier, 1961), и о «Тео, или Новое время» («Théo ou Le temps neuf», 1991), отмеченных здесь, так и о романе «Господин Сонж» («Monsieur Songe», 1982). Отсылку к последнему мы встречаем в упомянутом «хозяине, очнувшемся от кошмарного сна». «Songe», от французского «сон, сновидение», становится говорящей фамилией. Сон, с его нередко повторяющимися мотивами и образами – это особый символ в творчестве Робера Пенже, а кроме того уникальный литературный приём, позволяющий создать эффект спутанной реальности, «дежа вю» и способный удерживать внимание читателя на протяжении нескольких сотен страниц.
Труп, найденный на такой-то странице, может не просто остаться лежать на прежнем месте, на прикроватном коврике или письменном столе на всем протяжении романа, но как говорилось выше, может стать центром всего сюжетного развития. Чаще всего за основу Робер Пенже берёт одну единственную историю и превращает её в извечную тему для обсуждения в бакалейных лавках и на улицах города; в единственный факт, известный читателю о жизни героя; в событие, якобы проливающее свет на вновь совершённое преступление. История, рассказанная тысячи раз на свой лад, в конце концов, теряет всякий намёк на правдоподобность. В романе «Апокриф» встречаем следующие строки:
Его якобы видели в лесу в компании незнакомца на таком-то перекрестке…
Его могли видеть на тайной встрече в лесу с племянницей, девушкой, которая не общалась ни с кем…
Его могли видеть в один из воскресных дней в машине незнакомца на лесной опушке…» [10: 144].
Три повтора, три показания и сразу три версии развития событий. Как распознать правду? С помощью анафоры Робер Пенже акцентирует внимание на том, как бывает сложно собрать реальность из собранной информации, как недолговечна память, как для следователя на определённом этапе следствия все показания имеют равную ценность и равноценное право на существование и развитие. Анафора подчёркивает равную значимость, равноценность претензий каждой из высказанных версий на право называться правдивой и единственно верной. Читатель может убедиться в том, какие сомнения терзают рассказчика, если он уверен в том, что ни в чём нельзя быть уверенным.
Нагнетание эмоционального напряжения также всецело связано с повторением. Первое употребление фразы, как правило, имеет отношение непосредственно к сказанному выше, вытекает напрямую из контекста, но последующее обращение к высказыванию вновь и вновь подтверждает авторскую позицию и формирует общее восприятие прочитанного. Наглядным примером здесь может служить серия повторов в романе «Пассакалия». Несколько раз фигурирующее в тексте «Этот изуродованный труп с окровавленной ширинкой» [13: 40] вызывает неподдельное отвращение и мурашки, не давая читателю забыть о леденящей кровь картине, отголосках и трагедии, в этот самый момент разыгрывающейся в кабинете хозяина дома. Нейтральное философское замечание «История остаётся загадочной, без единой трещины на внешней оболочке» [13: 41] звучит иронично, как острота автора, который отказывается от психологических анализов в пользу описания обстановки и сухих диалогов действующих лиц. Робер Пенже будто нарочно всячески уходит от объяснений истинных причин и обстоятельств загадочной смерти главного героя, предлагая только отдельные, всем известные факты, попросту не давая заинтригованному читателю заглянуть в приоткрытый ставень и увидеть больше того, что увидел за ней соседский мальчик.
В «Вишу мстит» («Vishnu se venge»), одном из рассказов из сборника «Между Фантуаной и Агапой», широко используется синтаксический параллелизм, а кроме того лексический повтор выполняет как ритмообразующую, так и усилительно-выделительную функции. «Жители Фантуаны ужасны. Они пьют. Они работают. Они пьют» [8: 7]. Писатель закольцовывает жизнь обитателей, выносит своеобразный приговор однообразному течению их жизни, подчёркивает всю безысходность их положения. Скука и монотонность сопровождаются разложением нравов и ведут в конечном итоге к безрадостному концу. Утопить грусть в вине, забыться – вот единственный выход, который видят для себя жители Фантуаны, потерявшие всякую надежду найти себе занятие по душе, смысл жизни.
Оказаться в тупике, вернуться к началу, сделав поворот на все триста шестьдесят градусов и очутиться вновь перед непроходимым препятствием, в сущности именно по такой своеобразной логике строится каждое произведение Робера Пенже. «Повернуть, завернуть, вернуться» [13: 49]. Играя со значением синонимичных рядов, новороманист добавляет темп в повествование, служит неким призывом, как читателю, так и самому автору отмотать пленку назад, припомнить недостающие детали, должные помочь собрать рассыпавшийся паззл текста. Сюжет будто замыкается в некое кольцо, в центре которого разгадка тайны смерти главного героя.
Повторы часто играют роль неких «стрелок», по которым текстуальная машина переводится, то с грохотом, то вкрадчиво и незаметно с одних на другие пути повествования. В романе «Плуг» («Charrue», 1985) выстраивается целая цепочка размышлений по поводу того, что в действительности удерживает господина Сонжа от соблазна записать что-либо в свой блокнот. Что есть боязнь казаться меланхоличным; скрывается ли меланхолия за страхом или уныние и есть страх в чистом его проявлении. Мысль трансформируется, и происходит это именно резким переключением от одной идеи к другой. Выделяется такой переход повторением с выделением красной строкой «Либо» [7: 16,17]. Резкость переключения между мыслями достигается как раз за счёт такого подчёркивания разделительного назначения союза.
Итак, повтор в произведениях Робера Пенже, помимо своего главного назначения выразительного средства языка, выполняет целый ряд функций: текстообразующую, связующую, ритмообразующую, акцентирующую, эмо-тивно-выразительную, усилительную; с его помощью удается сохранять эффект рваного повествования. Проявляясь на фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, семантическом уровнях, фигура повторения увлекает читателя в водоворот вопросов и ответов, делает его соучастником псевдоубийства, открывает дверь в апартаменты короля и позволяет заглянуть в святая святых, в мастерскую писателя. В конце последней фразы любого произведения Робера Пенже хочется поставить запятую, а далеко не точку, ведь его книги «Не заканчиваются никогда» [14: 211].
Список литературы Связующая, ритмообразующая, экспрессивная и выделительная функции повтора в произведениях Робера Пенже
- Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб.: Паритет, 2006. 320 с.
- Вишняков А.Г. Поэтика французского Нового Романа. М.: Диона, 2007. 286 с.
- Жирмунский В.М. О ритмической прозе//Жирмунский В.М. Теория стиха. Л.: Советский писатель, 1975. С. 569-586.
- Adert L. Les mots des autres: (Lieu commun et creation romanesque dans les oeuvres de Gustave Flaubert,Nathalie Sarraute et Robert Pinget): Essai. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 1996. 301 р.
- Pinget R. Baga. P.: Les editions de Minuit, 1958. 176 р.
- Pinget R. Cette voix. P.: Editions de Minuit, 1975. 230 p.
- Pinget R. Charrue. P.: Editions de Minuit, 1985. 80 p.
- Pinget R. Entre Fantoine et Agapa. P.: Les editions de Minuit, 1966. 112 p.
- Pinget R. Fiston. P.: Editions de Minuit, 1981. 132 p.
- Pinget R. L’Apocryphe. P.: Editions de Minuit, 1987. 181 p.
- Pinget R. Lettre morte. P.: Editions de Minuit, 1959. 101 p.
- Pinget R. Monsieur Songe. P.: Les editions de Minuit. 1982. 128 p.
- Pinget R. Passacaille. P.: Les editions de Minuit. 1969. 136 p.
- Renouard M. Robert Pinget a la lettre. Entretiens avec Madeleine Renouard, P.: Belfond, 1993. 323 р.