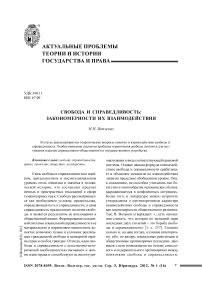Свобода и справедливость: закономерности их взаимодействия
Автор: Вопленко Николай Николаевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теоретические вопросы понятия и взаимодействия свободы и справедливости. Особое внимание уделяется проблеме ограничения свободы личности для достижения идеалов справедливого общественного и государственного устройства.
Свобода, справедливость, право, личность, общество, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/14972870
IDR: 14972870 | УДК: 340.11
Текст научной статьи Свобода и справедливость: закономерности их взаимодействия
Связь свободы и справедливости на идейном, деятельностном и институциональном уровнях столь очевидна и значима в человеческой истории, что составляет предмет вечных и пристрастных изысканий в сфере гуманитарных наук. Свобода рассматривается как необходимое условие, предпосылка, определяющая путь к справедливости, а сама справедливость предполагает наличие свободы и является результатом ее воплощения в общественной жизни. Формирование подлинной системы социальной справедливости в ее материальном и нормативно-ценностном аспектах возможно только в условиях реализации гражданской свободы и всемерной охраны прав и свобод граждан. Отсюда, идеи свободы и справедливости с естественно-исторической необходимостью вызывают к жизни идею права и способствуют ее институци- онализации в виде соответствующей правовой системы. Однако данная формула взаимодействия свободы и справедливости срабатывает и объясняет механизм их взаимодействия лишь на предельно обобщенном уровне. Она, к сожалению, не способна учитывать все богатство и многообразие человеческого бытия, выражающегося в конфликтных ситуациях. Более того, в литературе можно встретить утверждения о противоречивом характере взаимодействия свободы и справедливости как закономерности общественного развития. Так, В. Вольнов утверждает: «...есть основания считать, что история по меньшей мере последних двух столетий – это борьба свободы и справедливости» [1, с. 237]. Сказано сильно и, на наш взгляд, излишне категорично, ибо, по автору, социальные революции и общественные противоречия последних двух веков стали возможными на основе смыслового и содержательного противоречия между понятиями свободы и справедливости.
Разумеется, что представления о данных понятиях у буржуазии и рабочего класса существенно различаются, ибо основываются на антагонистически противоречивых классовых интересах. Идейно-ценностное воплощение этих групповых интересов в представлениях о свободе и справедливости предопределяет социально противоречивый облик данных понятий. Однако в данной ситуации речь должна идти не о борьбе свободы и справедливости, а о противоборстве стоящих за этими понятиями классовых, стратовых, национальных и прочих интересов.
Свобода – одна из величайших ценностей человечества, в основе которой лежит возможность независимого от внешних влияний самовыражения личности в мыслях и поступках. Как писал Сенека, свобода состоит в том, чтобы «не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности, ни у случая; низвести фортуну на одну ступень с собою...» [14, с. 89]. Метко по этому поводу высказался Мишель Монтень: «Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно и независимо...» [10, с. 235]. И далее: «Природа произвела нас на свет свободными и независимыми; это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме как из реки Хоасп...» [там же, с. 969]. Как тут не вспомнить знаменитый афоризм Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они» [13, с. 152].
Мысль о естественно-природном характере идеи свободы и сущностной ее конкретизации в независимости личности достаточно четко и последовательно проходит в большинстве исследований этой проблемы. Нам уже приходилось писать о том, что современное понимание свободы как бы поглощает собой понятие независимости, сообщая ей цивилизованный характер. «Независимость есть обнаженная свобода, сбросившая с себя покров социальной почтительности и представшая в своем эгоистическом выражении. Это объективно сложившаяся или субъективно завоеванная мера и объем свободы личности в ее поведении». Следовательно, незави- симость есть центральная идея, организующая реальное содержание свободы, а свобода, в свою очередь, есть всеобщая форма существования независимости. В таком виде идея независимости личности воплощается в праве» [2, с. 52].
Важнейшим требованием независимости является неприкосновенность личной и духовной жизни индивида, его личностная автономия. По мнению Д. Ролза, «каждая личность обладает основанной на справедливости неприкосновенностью, которая не может быть нарушена даже процветающим обществом» [12, с. 19].
Как отмечал еще Д. Локк, «свобода предполагает разум и волю» [9, с. 289]. Отсюда ее связь с осознанной необходимостью и нравственным законом. Человеческое разумение, познание жизненной ситуации и ее нормативного определения позволяет согласовывать личные желания с закономерностями общественной жизни и волеизъявлять свои намерения в определенных социально значимых границах. Давно уже сказано, что свобода порождает ответственность, а последняя направляет свободу. И прав был Гегель, отмечавший, что «когда говорят, что свобода состоит вообще в том, чтобы делать все, что угодно, то подобное представление свидетельствует о полнейшем отсутствии культуры мысли, в которой нет и намека на понимание того, что есть сами в себе и для себя свободная воля, право, нравственность и т. д.» [3, с. 80]. Все это означает, что как личностная свобода (свобода воли), так и гражданская свобода формируются и реализуются в виде комплекса осознанных возможностей волеизъявления субъектов, соотносимых с объективно сложившимися требованиями системы нормативного регулирования общественных отношений. Идея свободы лежит в основании нравственности и права как всеобщих и универсальных регуляторах общественной жизни, а они выступают в качестве основных социальных сфер ее бытия и нормативного определения. Оценивая разумную и свободную человеческую деятельность через категории добра и зла, правомерного и неправомерного, человеческая практика вызвала к жизни идею справедливости в виде универсального нравственного критерия ее правильности. Таким образом, спра- ведливость для свободы есть инструмент оценки ее разумности и правомерности и, вместе с тем, идеал, на который ориентируется свобода в своем самовыражении. Свобода должна быть справедливой, а справедливость есть результат осуществления свободной человеческой деятельности и средство ее легитимации. Свобода выражается в способности человека совершить какие-либо действия или воздержаться от них. Это позволяет вслед за И. Кантом выделять позитивную и негативную свободу [7, с. 104–105], то есть возможность действовать независимо от внешних влияний и возможность воздержаться от активного поведения, руководствуясь внутренними побуждениями. В современной интерпретации речь идет о двух аспектах выражения свободы в общественной жизни: «свобода для» и «свобода от». В первом случае имеется в виду максимальная возможность для самореализации каждого индивида в соответствии с его способностями, во втором – организация такого общественного порядка, в котором, несмотря на все ограничения и сдерживания, налагаемые в интересах всего общества на индивидуальные действия граждан, сфера индивидуального выбора и инициативы оставалась бы настолько широкой, насколько это совместимо с общественным благом [8, с. 159].
Система социальной справедливости своими материальными и нормативно-ценностными компонентами определяет оба аспекта проявления человеческой свободы. Она объективно сложившимся способом общественного производства и распределения материальных и духовных благ определяет пределы и спектр возможностей личности в экономической сфере, а посредством господствующей, объективно вмененной морали и правовой системы регламентирует повседневную жизнь. Свобода, таким образом, приобретает институционально выраженный и нормативно закрепленный характер. Однако, в свою очередь, она составляет социально необходимое интеллектуально-волевое основание справедливости. Не случайно еще Шеллинг отметил, что «реальное... и живое понятие свободы заключается в том, что она есть способность к добру и злу» [15, с. 102]. Понятие добра и зла составляют внутренний стержень нравственного закона, позволяющего различать справедливое и несправедливое в человеческих поступках и задавать нормативные параметры социально значимому поведению. Как отмечал И. Кант, «с идеей... свободы неразрывно связано понятие автономии, а с этим понятием – всеобщий принцип нравственности, который в идее точно также лежит в основе всех действий разумных существ, как закон природы в основе всех явлений» [7, с. 110]. Следовательно, свобода в гражданском обществе предстает как явление, отягощенное человеческим разумом, волей и нравственностью в практическом поведении. Свобода воли и гражданская свобода в масштабах общества несут на себе «вериги» разумной волевой и нравственной ответственности. И как заметил Мишель Монтень: «Поступки, которых не озаряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни удовольствия» [10, с. 963]. Это означает, что несвободное поведение не может и не должно «взвешиваться» на весах справедливости и несправедливости, не может вменяться лицу как основание его ответственности.
В самом общем виде свобода характеризуется как целенаправленная избирательная активность человека в обществе, осуществляемая целенаправленно на основе познанной и использованной объективной необходимости [5, с. 6]. Вместе с тем она может рассматриваться в качестве идеала, принципа и программы человеческой деятельности, сообщая ей подлинно социально значимый характер и соответствуя объективной закономерности общественного развития. Ставя перед собой конкретные цели жизнедеятельности и осуществляя их, человек, образно говоря, «купается» в стихии исторически завоеванной и нравственно закрепленной свободы, использует, а иногда и игнорирует ее возможности. Свобода для личности выглядит как естественноприродная и социально обусловленная среда ее обитания. Однако закономерным является тот факт, что осуществление личной свободы, как и свободы гражданской, может затрагивать интересы других лиц и приобретать социально значимый характер. А это означает, что реализация индивидуальной свободы воли, как и гражданских свобод в целом, сталкивается с проблемой необходимости соблюдения требований справедливости. И акты свободного волеизъявления людей далеко не всегда соответствуют стандартам справедливой жизнедеятельности. Требования справедливости в сферах экономики, политики, нравственности, праве корректируют свободные притязания субъектов, сдерживают человеческий эгоизм в границах объективно сложившейся системы нормативного регулирования. И здесь обнаруживается весьма интересная закономерность: ненарушенная справедливость, основанная на гармоничном, оптимальном регулировании общественных отношений, – неуловима, как естественное состояние совмещения, совпадения свободы и справедливости. Удачно по этому поводу заметил В.Е. Давидович: «И справедливость, и свобода, когда они налицо, становятся подобными воздуху. Без них жить – жить достойно – нельзя. Но когда они есть, их присутствие воспринимается как естественный ход событий» [6, с. 26]. Это означает, что актуализация проблемы соотношения свободы и справедливости в общественной жизни наблюдается в ситуации нарушения их меры и границ осуществления, когда становятся известными общественному мнению и обсуждаемыми факты несоблюдения прав и свобод граждан и их организаций, а также нормативов справедливого поведения. Проблема эта особо обостряется, когда во имя реализации индивидуальной или групповой свободы происходит посягательство на общепринятые в масштабах общества образцы и идеалы справедливости. И это требует более основательного изучения функциональной значимости справедливости по отношению к свободе.
В самом общем виде справедливость можно определить как чувство и лежащую в его основе идею, принцип и соответствующий режим жизнедеятельности (создания и распределения материальных и духовных благ) посредством уравнивания положения субъектов в системе общественных отношений и воздаяния им пропорционально их позитивному и негативному вкладу в социальную жизнь. Она есть основанный на идее добра и общего блага, а также недопустимости или минимизации зла нравственный критерий определения меры оптимально допустимого, желательного поведения людей. Взвешивая на весах разума и чувств человеческие поступки и соизмеряя их с выработанными человечеством нормативами в сферах морали, права, политики и т. д., справедливость вносит гармонию и упорядоченность в общественную жизнь путем ориентации ее на нравственные идеалы. И если назначение свободы состоит в обеспечении независимого от внешних и внутренних факторов самовыражения личности при удовлетворении своих интересов, то справедливость предназначена изначально для оценки и регулирования свободно развивающейся деятельности. Она измеряет акты свободного волеизъявления и оценивает их с позиции нравственного закона в качестве идеала общественного развития.
Говорят, что борьба за свободу совершенствует оковы. Действительно, историческая борьба угнетенных классов общества, осуществлявшаяся на протяжении многих веков под лозунгами восстановления попранной социальной справедливости, выливалась в создание и совершенствовании правовых норм и процессуальных процедур обеспечения беспрепятственной реализации прав и свобод личности и социальных общностей. Этот процесс продолжается и в настоящее время. Однако заметно набирает силу и обратная тенденция. Суть ее состоит в разработке и введении в действие значительного числа правоограниче-ний для личности в тех сферах, которые ранее считались «заповедными» областями личной свободы. Речь идет в первую очередь о численном росте различного рода так называемых «мер социальной и юридической защиты», применяемых не в связи с совершенными правонарушениями, а исходя из необходимости профилактики и всемерной охраны общественного в широком смысле и правового порядка. Это санкционированное действующим законодательством проникновение в жилища граждан служб и должностных лиц пожарной охраны, электриков, газовиков, полиции и прочих служб. Такое же значение имеют личный досмотр граждан, досмотр, а фактически обыск, автотранспорта, контроль за багажом и содержимым одежды в аэропортах, а в некоторых регионах – и на автовокзалах и на железнодорожном транспорте. Появляются также сомнительные с точки зрения закона региональные запреты на ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, посещение гражданами лесопарковых зон, запреты на рыбалку, обязательная регистрация резиновых лодок и т. д. К этому следует добавить и тенденцию расширяющейся криминализации человеческих деяний, выражающуюся в росте числа уголовно наказуемых деяний (экономико-финансовая и компьютерная сферы), а также увеличения численности административно-правовых правонарушений. Субъекты Российской Федерации, имеющие свои административные кодексы, как бы соревнуются в установлении своих региональных административных проступков и мер наказания за их совершение, особенно в сфере торговли и быта. Из года в год расширяется число ведомственных субъектов, уполномоченных на применение властных правоогра-ничений и конкретных санкций к гражданам. Мониторинг ведомственных правоохранительных служб отсутствует, а требование наличия исчерпывающего и законодательно закрепленного перечня субъектов, правомочных применять санкции к гражданам и их объединениям, не выдерживается. Все это свидетельствует о том, что сфера личной свободы человека неуклонно сжимается, причем зачастую аргументируется эта тенденция необходимостью защиты общественного порядка и обеспечения социальной справедливости.
Безусловно, расширение сферы право-охраны и количественный рост правоогра-ничений не всегда являются государственно-правовым произволом, а в большинстве случаев выглядит как необходимый и неизбежный ответ современной правовой системы на вызов, порожденный научно-техническим прогрессом, усложнением противоречий рыночной системы. И тем не менее налицо ограничение сферы свободы личности во имя защиты государственно гарантированного уровня справедливости. В зависимости от конкретно-исторической расстановки политических сил общества этот официальный уровень не всегда соответствует воле и интересам большинства населения страны и, таким образом, может возбуждать общественное мнение в борьбе за свободу и справедливость.
Сужение границ социальной свободы в сфере, подвластной праву, отражает одну из закономерностей общественной жизни, согласно которой чем интенсивнее человеческое общение, тем больше создается возможностей для ограничения свободы [5, с. 9]. Данную закономерность отмечает и американский социолог С. Ниринг: «В современном обществе гнет экономических и социальных сил, особенно технических, направлен в сторону ограничения. Увеличение масштабов и глубины развития, достижения в области координации, автоматизации, планирования сокращают возможности выбора, увеличивают необходимость подчинения требованиям организации и системы» [11, с. 114].
Это вполне соответствует усилению и усложнению динамики современной жизнедеятельности. Развитие научно-технического прогресса, появление новых сфер и форм человеческого взаимодействия в различных областях общественной жизни, особенно посредством компьютеризации, объективно потребовало разработки и введения в систему правового регулирования новых правоограни-чений, необходимых для охраны национально-государственных, общественных и личных интересов. Все это актуализирует проблему ситуационной справедливости в этих динамично развивающихся сферах человеческого общения.
Решая вопрос о соотношении свободы и справедливости, весьма заманчиво объявить справедливость абсолютным благом и основной целью общественного развития в противоположность свободе как благу относительному по своей значимости и средству к достижению идеала справедливого социального и государственного устройства. Однако еще Гегель подчеркивал, что свобода составляет конечную цель развития всемирной истории, а сама история убедительно свидетельствует, что там, где нет свободы, не может быть справедливости и общественного развития. «Итак, всемирная история представляет собой ход развития принципа, содержание которого есть сознание свободы» [4. c. 105]. Однако, думается, недопустима и абсолютизация свободы в ущерб идее справедливости, составляющей основу нормативной регламентации общественной жизни и устанавливающей границы осуществления свободы. И это наводит на мысль о том, что состояние взаимосвязи данных явлений в обществе заключается в неком балансе, основанном на исторически сложившемся саморегулировании и самоорганизации. Чем меньше в обществе социальных свобод и сильнее гнет экономических, политических, правовых и прочих ограничений, тем настойчивее и актуальнее начинают звучать призывы к восстановлению попранной справедливости и вырабатываются средства ее гарантирования. И наоборот, чем больше накапливается в обществе примеров и практики несправедливости, тем чаще и увереннее общественное мнение обращается к идее и принципам свободы как средству защиты от произвола. Осуществляется, таким образом, исторически сложившийся процесс выравнивания объема и меры свободы и справедливости посредством ограничения их крайних, неумеренных проявлений. Универсальным средством такого выравнивания выступают правоограни-чения в различных сферах общественной жизни, ведущие к формированию относительно устойчивого баланса в возможностях и обязанностях личности. При этом историческая логика бытия этой закономерности состоит в том, что ограничение свободы во имя справедливости вполне уместно и допустимо; игнорирование же справедливости для всемирного торжества свободы и ее отдельных проявлений выглядит как анархия или человеческий эгоизм. Следовательно, справедливость – это тот нравственно-правовой идеал и принцип общественной жизни, на который должны ориентироваться все акты свободной человеческой жизнедеятельности.
Список литературы Свобода и справедливость: закономерности их взаимодействия
- Вольнов, В. Феноменология/В. Вольнов. -СПб.: Альстейя, 2008. -303 с.
- Вопленко, Н. Н. Очерки общей теории права/Н. Н. Вопленко. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. -897 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Философия права/Г. В. Ф. Гегель. -М.: Мысль, 1990. -529 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Лекции по философии истории/Г. В. Ф. Гегель. -СПб.: Наука, 1993. -479 с.
- Давидович, В. Е. Грани свободы/В. Е. Давидович. -М.: Мол. гвардия, 1969. -224 с.
- Давидович, В. Е. Социальная справедливость: идеал и принцип деятельности/В. Е. Давидович. -М.: Изд-во полит. лит., 1989. -255 с.
- Кант, И. Критика практического разума/И. Кант. -СПб.: Наука, 2005. -528 с.
- Ллойд, Д. Идея права/Д. Ллойд. -М.: Книгодел, 2006. -415 с.
- Локк, Д. Опыт о человеческом разумении/Д. Локк//Соч.: в 3 т. Т. 1/Д. Локк. -М.: Мысль, 1985.-622 с.
- Монтень, М. Опыты. Полное издание в одном томе/М. Монтень. -М.: Альфа книга, 2009. -1150 с.
- Ниринг, С. Свобода: обещание и угроза/С. Ниринг. -М.: Прогресс, 1966. -192 с.
- Ролз, Д. Теория справедливости/Д. Ролз. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. -535 с.
- Руссо, Ж. Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права/Ж. Ж. Руссо//Трактаты/Ж. Ж. Руссо. -М.: Наука, 1969. -703 с.
- Сенека. Письма Луцилию. Марк Аврелий. Наедине с собой. -Симферополь: Реноме, 2002. -381с.
- Шеллинг, Ф. В. Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах/Ф. В. Й. Шеллинг//Соч. В 2 т. Т. 2/Ф. В. Й. Шеллинг. -М.: Мысль, 1989. -638 с.