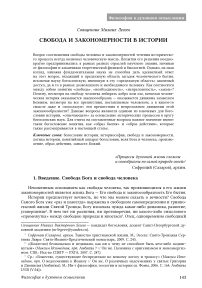Свобода и закономерности в истории
Автор: Священник Михаил Легеев
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия в духовном осмыслении
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Вопрос соотношения свободы человека и закономерностей течения исторического процесса всегда волновал человеческую мысль. Попытки его решения неоднократно предпринимались в рамках разных отраслей научного знания, начиная от философии и заканчивая теоретической физикой и биологией. Однако, на наш взгляд, никакая фундаментальная наука не способна дать адекватный ответ на этот вопрос, входящий в предельную область загадок человеческого бытия, исключая науку богословскую, имеющую в эту «предельную область» законный доступ, да и то в рамках дозволенного и необходимого человеку. Как соотносятся между собою понятия «свобода», «необходимость», «непреложность», «закон»? Почему, несмотря на свободу человека избирать добро или зло, всецелая человеческая история оказывается законосообразна — оказывается движима замыслом Божиим, несмотря на все препятствия, поставляемые человеком, а в каком-то смысле даже и «используя» эти препятствия в непреложном движении этой законосообразности? Данные вопросы являются одними из ключевых для богословия истории, «отвечающего» за осмысление исторических процессов в кругу богословских наук. Для ответа на поставленные вопросы важное значение имеют такие богословские понятия, как «образ бытия» и «образ действия», которые также рассматриваются в настоящей статье.
Богословие истории, историософия, свобода и закономерности, логика истории, понятийный аппарат богословия, воля Бога и человека, произволение, образ действия, замысел Божий
Короткий адрес: https://sciup.org/140220807
IDR: 140220807
Текст научной статьи Свобода и закономерности в истории
«Процессы духовной жизни сложны и своеобразны по самой природе своей» 1
Софроний (Сахаров), архим.
1. Введение. Свобода Бога и свобода человека
Неизменным основанием как свободы человека, так проявляющихся в его жизни закономерностей является жизнь Бога — Его свобода и законосообразность Его бытия.
Истории предшествует вечность, но что мы можем сказать о вечности? Свобода Самого Бога уже «раз и навсегда» выражена в свободном самоопределении и триипо-стасной жизни Святой Троицы, Богу изначала чужда какая-либо динамика, развитие, усовершение2. В нем нет ни различия, ни противоречия, ни какого-либо смыслового «промежутка» между свободою природы и ипостаси3. Отец, одновременно свободный
по природе (т. е. как Бог), но и по ипостаси, — будучи обладателем своей природы, вместе с природою4 передает эту свободу Сыну и Духу, Которые, в свою очередь, свободно и ипостасно самоопределяются по отношению к Отцу и друг другу в согласии с собственной природою5. Как невозможно усмотреть «зазора» не только «временного», но даже и смыслового6 между природою и ипостасным бытием Святой Троицы, так невозможно усмотреть подобного «зазора» в отношении Божественных сил и свойств, которые имеют (как и всё вообще существующее) как природное, так и ипостасное измерение.
Поскольку в Боге снимаются все противоречия, Его свобода и самовластие не могут быть противопоставлены непреложности и неизменности Его бытия7. Но это внутреннее единство Божественной свободы и непреложности уже не может быть сохранено, когда мы вторгаемся в область творения, человека и его отношений с Богом, — в область истории. Именно здесь начинается осуществление великого замысла Бога.
Бог законодательствует всему, и это законодательство и есть акт Его совершенной свободы — свободное произволение Бога становится законом для мира и человека, законом, отражающим и отобразующим в себе непреложность Бога8, логосом и смыслом бытия творения9, нетварным основанием устойчивости тварного бытия10. С другой стороны, в саму природу человека Бог вкладывает образ Своей Божественной свободы — свободу, способную через произволение11 избирать предлагаемый Богом закон, то есть законосообразный путь своего личного развития и вызревания, осуществляя этот путь в своих действиях12. Так, созданный для истории, человек оказывается призван вложенную в него Богом природную свою свободу13 возвести до свободы ипостасной и совершенной — не только человеческой, но, вместе с тем, и божествен-ной14, необратимой15, неколебательной и устойчивой16, принятой в личное достояние человека17.
В истории начинается осуществление великого замысла Бога, начинается грандиозная борьба двух свобод18 с обоюдной победою19 в перспективе и конце этого пути20 — победою, в которой свобода и закономерность окончательно придут к своему единству уже в человеке, в Церкви, в человечестве21. Этот момент станет концом истории.
Этот исторический процесс может быть описан в некоей простой и своего рода «идеальной» модели — на примере отдельно взятого человека22, сперва устремленного к святости, а затем и достигающего ее. Такой «механизм» возрастания человеческой свободы и постепенного восхождения человека к неуклонному стоянию в Боге с соответствующим постепенным переходом его от состояния «возможности не грешить» к состоянию «невозможности грешить» описывает прп. Максим Исповедник, дающий из всех святых наиболее полное и развернутое учение о свободе вообще и свободе человека в частности23. Динамика такой жизни человека, его движения по пути к Богу может быть описана определенными закономерностями. Корень этих закономерностей исторического развития лежит в устройстве природы человека, а еще глубже — в той таинственной троической жизни Самого Бога, которая, приоткрываясь человеку, выступает опорой его жизни и развития24. Уже само тройственное устроение природы человека (состоящей из тела, души и ее высшей части — духа) отображает в себе троичность Бога. Но отображает не каким-либо простым и прямым образом, так что одна из частей нашей природы соответствовала бы одному из Лиц Святой Троицы25. Отображение троичности Бога в природе человека имеет более сложный и менее очевидный характер, выявление которого принадлежит истории. Именно история через закономерности развития человеческой личности, человеческого социума и, наконец, отношений человека и Бога дает увидеть, хотя и прикровенно, связь устроения человека с жизнью Святой Троицы26. Сама свобода человека в своем ипо-стасном развитии оказывается «подчинена» законосообразности устроения человека, оказывается вписана в историю и способна развиваться лишь по законам истории.
2. Путь, предложенный человеку Богом: кратчайшее вызревание образа бытия человека
Совершенная сращенность человека с Богом, пронизанность человеческой природы Божественными энергиями, личное обладание ими человеком — таково было изначальное призвание человека, логос27, закон, цель, задача, поставленная ему Богом. В процессе развития личности человека душевные и телесные силы его должны были быть взращены и интегрально применены. Этот закон, согласно замыслу Божию, мог бы осуществиться через безгрешный образ действия28 человека — путем неуклонного следования его за Богом и, таким образом, постепенного развития своей личности, своего ипостасного бытия.
Адам не был обожен; вернее, это обожение было дано ему лишь в начат-ке — в той начальной мере, которая позволяла ему пройти весь путь становления как личности (обретающей искомое теснейшее единство с Богом) до конца. Сотворенный человек, будучи духом своим всегда направлен к Богу (вплоть до момента грехопадения), в отношении своих душевных и телесных сил был подобен младенцу: лишь постепенно развивая и применяя эти силы, он был способен исполнить возложенную на него задачу.
Телесные и душевные силы человека, хотя и были сотворены, но еще только формировались в своем энергийном развитии , тогда как дух человека от начала был крепко прилеплен к Богу29. Более того, человек должен был стать социальным существом : стать им через личный труд каждой из человеческих ипостасей, Адама и Евы. Совместный труд, водительствуемый верою человеческого духа и руководимый Богом, привел бы постепенно человека к вызреванию цельности его душевных сил, к умно-сердечному единению людей друг с другом в своей энергийной жизни и, таким образом, к познанию ими себя и мира. Взращивание в единстве сил души человека призвано было произойти через социальное (синаксическое, синаксисо-ипо-стасное30) единение человеческих ипостасей — действенное (т. е. энергийное ) единение их в единомыслии и любви.
Через прохождение этого пути запретное прежде Древо познания (которое, по толкованию святых отцов, есть сам человек31) сделалось бы съедобным и полезным; первая Ева стала бы и второй, Бог, по слову прп. Максима Исповедника, воплотился бы для человека, — но не для того, чтобы избавить его от греха, а чтобы и безгрешного возвести на высоту небес непреклонности Божественной воли32, которой надлежало стать уже личным (воипостасным — через обожение) достоянием человека33. Укорененные и осуществленные в человеке (через синаксическое единство друг с другом), любовь и познание себя позволили бы людям совершить и более высокий духовный труд — водительствуясь воплотившимся Сыном Божиим, совершенно забыть о себе34 и полностью вручить себя Богу — не только вверяя ему свой дух (как при начале пути) и даже не только присовокупляя к нему жизнь души, то есть все душевные действия, ставшие отныне общими, — мысли, чувства и желания, — но и само тело, а вместе с тем и саму жизнь, полагая более за ничто само по себе и отдавая Богу.
Тогда, по вкушении плода Древа познания, в этом богозамысленном и законосообразном пути вызревания человека как личности — а именно вызревании его образа бытия — от ипостасного, через синаксисо-ипостасный, ко всецелостному и кафо-лическому 35, — тогда осуществился бы замысел Божий о человеке как о Церкви. Только совершенное самоотвержение, отказ от себя, могло соединить человеческие ипостаси в совершенном и оттого непоколебимом общении (греч. — κοινονία) уже не только друг с другом, но — силою Святого Духа — и с Божественными Ипостасями Святой Троицы.
Такой ход истории, ее «идеальная модель», был предложен Богом человеку.
3. Образ действия как ключевое понятие богословия истории36
Но всякий человек принципиально выше законов и формул , а лучше сказать, инаков им. Человек имеет колоссально сложное внутреннее устроение. И эта сложность состоит не только и даже не столько в самом внутреннем устройстве человека, так сказать, в самой данности его бытия, в его природе, сколько в том многообразии возможностей динамического развития человека (т. е. конкретно взятого человека), изменения его состояния, его многоаспектных , тонких, порою хрупких и неустойчивых отношений с Богом, с окружающим миром, с другим человеком. Так, один и тот же путь может быть совершен разными способами, или образами37, включая окольные и несовершеннейшие из них38. Поэтому, когда человек согрешил, история его отношений с Богом стала совершаться по тем же самым законам , но — совершенно иным образом 39 — образом, отразившим личный выбор Адама и его наследников, включая всякого человека40.
Это многообразие возможных личных образов действия, личных путей сохраняет свою актуальность для каждого человека. Мы по-разному идем ко Христу. Мы по-разному идем и со Христом. Способ нашего духовного движения различен, хотя само движение, сам путь отношений каждого человека с Богом41 пролагается, образно выражаясь, по рельсам одних и тех же энергий — Бога и человека. Человек сам создает способ своего движения с Богом и к Богу, тогда как само движение, состоящее из совокупности действий (Божественных и человеческих), раз и навсегда определено Христом.
— Все, совершенное на страницах Ветхого Завета, маленькие и большие победы праведности патриархов и пророков, равно как и маленькие и большие падения и отвержения Бога, — все это было выбором человека, принимающего или не принимающего волю Бога, все это стало вехами пути истории, формируемой свободою человека, но направляемой непреложностью Божией воли.
— Бог воплотился в определенный момент истории — и этот момент также стал выбором и способом (греч. — τρóπος) человека, принимающего волю Бога.
— Так и в жизни каждого члена Церкви Христовой, идущего ко Христу, далекие прообразы Ветхого Завета, праведные и грешные деяния давно ушедших людей отображаются, проживаются и повторяются — но все это совершается выбором человека и через особый образ, однако же, тех самых действий.
— Так и в жизни каждого члена Церкви Христовой Сам Христос прообразуется42, зачинается43, воплощается44, действует, нечто совершает через выбор и образ действия человека.
— Божественная благодать постепенно входит в человека и становится его личным достоянием — также через личный выбор и способ, присущий данному человеку и формируемый им45.
4. Образ бытия и образ действия в их взаимном отношении
5. Кенотический путь вызревания образа бытия человека
Малая священная история каждого человека46 представляет собой ипостасный облик его личного пути, несет печать его личных способов осуществления единого и общего достояния Христова — в человечестве и в Божестве. Каждый из людей способен проживать в себе путь Адама, ветхозаветных праведников и грешников, пророков и богоотступников, наконец, путь Самого Христа, соделывая его своим собственным, особым путем к Богу и с Богом.
Физическое, душевное, наконец, духовное усилия, совершаемые в трудящемся во спасение человеке, осуществляются в нем множеством присущих ему способов , сохраняя при этом как свою последовательную преемственность, так и внутреннее единство и связь друг с другом и с Богом. Из этой внутренней картины человеческой жизни слагается постепенно его малая священная история, формируется его образ бытия, происходит историческое вызревание его как личности. Точно так же из выборов отдельных людей слагается Священная История Церкви — ветхой и прообразова-тельной и новой, Христовой, слагается и формируется образ бытия Человека и человечества. Так, история церковных общин слагается из этих личных путей отдельных людей, а история всей Церкви обнимает собою их все; образуя как бы много-ипо-стасную, синаксисо-ипостасную и кафолическо-ипостасную уникальную и ни с чем не сообразную полноту (полноту, в перспективе которой уже совершенно нет места какому-либо обособлению)47, опирающуюся на триипостасный образ Божественного действия , который одною своею гранью, а именно во Христе, стал своим, личным человеку и Церкви48.
История разворачивается в богозамысленный, динамически изменяющийся и законосообразный образ бытия человека , проходящего свой путь от ипостасной обособленности и атомарности49 к кафолической полноте (внутри и вовне себя); а конкретный облик и форму этому бытию, этому образу бытия придает человек, сообщая ему произвольный образ своего действия, который способен вообразовать и вообразует в себе (и в себя) энергию Самого Бога .
Как человеческая природа воипостазируется Божественной Личностью Сына Божия, подобно тому и человеческая воля этой природы вовлекается в осознанный и непоколебимый «выбор» и изволение Его как Личности, Божественной Личности — как бы «воипостазируется»50 в этот «выбор» и произволение — а терминологически точнее сказать, ипостасно вообразуется в образ воли и энергии Божественной, так что «тропос единения оставляет невредимым логос различия»51. Неуклонное следование человеческой воли Сына Божия за Его Божественной волей, ее совершенное, непреложное и синергийное согласие с последней может быть терминологически описано как явление воли человеческой не в некоем собственном образе52, но в образе (способе действия) воли иной — Божественной и самодостаточной53. Подобно тому, как человеческая воля участвует в Божественном выборе Сына Божия54, так и, напротив, в каждом человеке, члене Церкви, воля Божественная находит свое участие в личном выборе конкретного человека. Этот выбор есть ипостасный образ его человеческой воли; поскольку человек как Церковь55 всегда несовершенен и претерпевает внутреннюю духовную динамику56, постольку его выбор и произволение, то есть ипостасный образ его воли, также несовершенен и динамично изменяем, то есть в каждой точке исторического пути человека представляет собой в лучшем случае некоторую перемену от худшего к лучшему. В той части, в какой человек согласуется с Божественной волею, проникается Божественной энергией, его воля и энергии оказываются вовлечены в Божественную жизнь, а человеческий образ его воли и действия становятся образом воли и действия не только человека, но и самого Бога. Это значит, что единое действие Божие находит свое осуществление еще в одном образе (т. е. в масштабе Церкви — уже во множестве образов), прилагая его к неизменным и вечным образам Откровения Лиц Святой Троицы. Так, вечные слова о том, что «всё из Отца, через Сына и во Святом Духе», прилагаясь к каждому из членов Церкви, обретают с ним и свое историческое продолжение: вместе с Лицами Святой Троицы уже человеческие ипостаси становятся творцами истории, продолжателями и носителями дела и слова Христова — через каждого из них, причем различным образом, действие Божие продолжает простираться к миру и человеку57.
Вся история человека и человечества становится выбором человека, но — осуществлением замысла Бога, идущего навстречу человеку. Бог действует в истории, продвигая ее к своей цели, но его промысел деликатен из уважения к свободе человека. Бог и человек совместно и лично трудятся над Священной Историей человеческого пути (с Богом и к Богу), в каком бы масштабе мы ни посмотрели на этот путь и на эту историю58. В основании этого свободно избранного пути человека стоит и свободный выбор Самого Бога. Так, единый способ действия, единый путь Христа — Божественный и человеческий — был определен Им по Божественному предведению на Предвечном Совете, в согласии со Отцом и Святым Духом.
В реальности выбранный человеком путь стал окольным путем, стал путем страдания и кенозиса . Бог, принимая свободный и личный выбор человека, удивительным образом соделывает его выбором и способом того же самого пути, протекающего по тем же самым законам развития образа бытия человека , которые были замыслены и предустановлены Им от начала.
Христос умер за всех, потому что, быв до конца со всеми, Он не мог не разделить (добровольно!) их участи. Его кенозис, продолжаемый и повторяемый в Его учениках, свидетельствует о том, что кафолическая полнота Церкви есть полнота ее выхода за свои собственные ипостасные, кафолические пределы — выхода к пребыванию со всем миром 59.
В каждом из членов Церкви Христовой эта кафолическая полнота стремится выразиться через то, что архим. Софроний (Сахаров) назвал «болью, рождающей молитву за весь мир»60. Но и прежде того в каждом из членов Церкви Христовой синаксическое общение друг с другом, о котором Сам Христос говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20), — стремится выразиться через такую открытость церковных членов друг другу61, в которой всякие непреодоленные противоречия между ними отходят на второй план. И еще прежде того в каждом из членов Церкви Христовой и вообще всех людей их ипостасное бытие, содержащее, по слову апологетов, «семена Логоса»62, бывает выражаемо хотя бы через микроны добра (добрых дел, мыслей, чувств, желаний и слов), если еще и не подражая, то, по крайней мере, стремясь к подражанию Христу63.
Водительствуемый Богом через веру дух человека запускает в воипостасной человеческой природе сложный, страдательный в своем характере процесс труда, где основная тяжесть и ответственность ложится на телесный состав человека (наиболее еще разобщенный в человеке и устремляемый к распаду). В конце же этого пути к Богу само преодоление и умолкание телесного (более не разобщаемого и не раздираемого, подчиненного уже духу) становится более великим и тяжелейшим трудом самого духа человека64.
6. Заключение
В настоящей статье мы попытались дать лишь самый общий обзор проблематики соотношения свободы человека и закономерностей хода истории его отношений с Богом.
Человек, отступающий от Бога, безусловно, способен влиять на историю. Но это влияние неизменно оказывается лишь негативным «сопровождающим элементом», «теневой стороной бытия», всякий раз умножающей подлинную силу того пути, который совершает Церковь, — этот стержень истории. Подробнее этот аспект раскрывается в наших статьях «Предание и антипредание»65 и «Научно-технический прогресс в контексте „Божественной педагогики“»66.