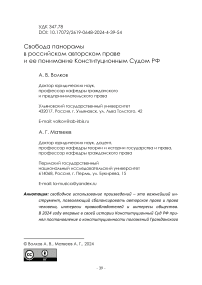Свобода панорамы в российском авторском праве и ее понимание Конституционным судом РФ
Автор: Волков А.В., Матвеев А.Г.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Свободное использование произведений - это важнейший инструмент, позволяющий сбалансировать авторское право и права человека, интересы правообладателей и интересы общества. В 2024 году впервые в своей истории Конституционный Суд РФ принял постановление о конституционности положений Гражданского кодекса РФ о свободном использовании произведений (постановление № 33-П). Соответствующий пункт устанавливает случай свободного использования произведений, который неофициально именуется «свободой панорамы». По мнению Суда, размещение в путеводителе изображений скульптур, находящихся в открытом для посещения месте, не требует согласия правообладателя даже в том случае, когда путеводитель распространяется в коммерческих целях или когда изображение скульптуры является основным объектом использования. Эта позиция противоречит ясному тексту статьи 1276 ГК РФ, не содержащему таких исключений. По мнению авторов настоящей статьи, Конституционный Суд противопоставил юридическому формализму правовой реализм, необоснованно отождествив интересы издателей путеводителей с интересами общества. Также, по мнению авторов, ряд аргументов КС РФ не относятся к сути рассматриваемого дела и являются недостаточно обоснованными.
Авторское право, исключительное право, свободное использование, свобода панорамы, произведение, конституционный суд
Короткий адрес: https://sciup.org/147244932
IDR: 147244932 | УДК: 347.78 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-4-39-54
Текст научной статьи Свобода панорамы в российском авторском праве и ее понимание Конституционным судом РФ
Л ейтмотивом современного авторского права во всем мире, на наш взгляд, в XXI веке стал поиск баланса интересов правообладателей, с одной стороны, и общества, с другой. В целом эта ситуация обусловлена тем, что охрана авторских прав во многих странах мира достигла такого высокого уровня, который стал затрагивать осуществление основных прав человека. Прежде всего можно говорить о несоразмерно жестких санкциях за нарушение исключительных авторских прав, о недостаточной развитости законоположений об ограничениях исключительных прав, об антипиратских законах, которые позволяют, по сути, навсегда заблокировать интернет-сайты. Проблема авторского права и прав человека актуализировалась с принятием и вступлением в силу Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.1 Это может показаться парадоксальным, но именно Соглашение ТРИПС, которое заставило многие страны мира установить охрану интеллектуальной собственности на слишком высоком для них уровне, в качестве одной из целей провозглашает, что охрана прав интеллектуальной собственности должна способствовать достижению баланса прав и обязательств (ст. 7).
Духовный отец Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений Виктор Гюго, председательствовавший на Международном литературном конгрессе 1878 года, проведение которого и последующих конгрессов такого рода в итоге привело к принятию в 1886-м Бернской конвенции2, утверждал, что авторское право и общественный интерес должны идти рука об руку: «Книга как таковая принадлежит автору, но как создание мысли она принадлежит – и это не преувеличение – всему человечеству. Все умы имеют на нее право. Если бы одно из этих прав, право писателя или право человеческого разума, пришлось… принести в жертву, это было бы, конечно, право писателя, ибо интересы общества – наша главная забота, и все , утверждаю я, должны стоять выше, чем мы »3.
Практически во всем мире к авторско-правовым механизмам, посредством которых можно сбалансировать интересы правообладателей и общества, относятся следующие: 1) ограничения исключительных авторских прав (свободное использование произведений); 2) установление ограниченных сроков действия исключительных авторских прав; 3) требование об охраноспособности формы, а не содержания (идей, концепций, теорий, принципов) произведения; 4) установление исключений, изымающих из-под авторско-правовой охраны некоторые виды объектов (официальные документы, новости).
Ограничения исключительных авторских прав – это важнейший инструмент, позволяющий сбалансировать авторское право и права человека, интересы правообладателей и интересы общества. Эта мысль подтверждается многочисленными докладами и заявлениями, опубликованными в последние годы4.
Некоторые немногочисленные случаи свободного использования произведений установлены в актах международного права и, вследствие этого, обязательны для всех участников соответствующих соглашений. Например, к таким ограничениям относится цитирование, зафиксированное в пункте 1
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ статьи 10 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. Для государств – членов Европейского союза решающими в этом смысле являются директивы ЕС, в которых закрепляются случаи свободного использования произведений. При этом их перечень участники Евросоюза не имеют права расширять в своем национальном законодательстве, что подтверждено решением Суда ЕС в 2019 году5.
В российском законодательстве ограничения исключительного авторского права закреплены в статьях 1272–1280 Гражданского кодекса Российской Федерации6 (далее – ГК РФ). В целом установленный в России набор случаев свободного использования произведений соответствует зарубежному опыту регулирования рассматриваемых отношений. Однако по сравнению с рядом развитых зарубежных правопорядков отечественная система ограничений и исключений является более инертной. Существенные изменения в указанные статьи ГК РФ последний раз были внесены в 2014 году7. В 2022-м отдельные изменения были внесены в пункт 2 статьи 1274 ГК РФ8, посвященный имплементации Марракешского договора 2013 года9.
В 2024 году впервые в своей истории Конституционный Суд Российской Федерации (далее также Суд) принял решение в форме постановления по делу о проверке конституционности законоположения о свободном использовании произведений. Это обстоятельство, безусловно, поднимает на новый уровень значимость вопросов об ограничениях исключительных авторских прав и о поиске баланса в авторском праве России. Речь идет о постановлении Конституционного Суда РФ от 25 июня 2024 г. № 33-П10. Суд рассматривал
ВОЛКОВ А. В., МАТВЕЕВ А. Г. ______________________________________________________ дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 1276 ГК РФ (Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения). В этом пункте закреплен случай свободного использования произведений, который неофициально именуется «свобода панорамы» (нем. Panorama Freiheit, англ. Freedom of Panorama). По мнению Суда, основанием к рассмотрению дела стала обнаружившаяся неопределенность – соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявителем ООО «Издательский дом “Фест Хэнд”» (далее – Издательский дом) законоположение.
Согласно пункту 1 статьи 1276 ГК РФ является свободным использование «произведения изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли». При этом таких исключений не сделано для свободного использования произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения (п. 2 ст. 1276 ГК РФ). Такая дифференциация свободы панорамы для фотографий и произведений изобразительного искусства, с одной стороны, и произведений архитектуры и садово-паркового искусства, с другой стороны, была осуществлена Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ и вызвала положительную оценку у специали-стов11. До 2014 года свобода панорамы для произведений архитектуры также была ограничена двумя упомянутыми выше исключениями.
Конституционность этих двух исключений пункта 1 статьи 1276 ГК РФ, примененных арбитражными судами в конкретном споре, стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Скульптор П. П. Чусовитин является автором скульптурно-художественного произведения «Основатели города Екатеринбурга В. Н. Татищев и В. И. де Геннин». Этот памятник установлен в Екатеринбурге, на площади Труда. В 2017 году Издательский дом подготовил и опубликовал печатное издание «Путеводитель “Свердловская область”», в котором без согласия автора разместил фотографию указанного произведения. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) обратилась в арбитражный суд с иском к Издательскому дому о взыскании в пользу автора П. П. Чусовитина компенсации за нарушение исключительного права на его произведение. Сначала Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил исковые требования и признал использование фотографии памятника в путеводителе неправомерным. Вопреки позиции ответчика, согласно которой применению подлежит пункт 2 статьи 1276 ГК РФ, арбитражный суд применил пункт 1 этой статьи и отметил, что «спорное произведение создано не в качестве составной части произведения садово-паркового искусства, а как самостоятельный объ-ект»12. Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с решением суда и постановили отказать истцу в исковых требованиях13. Однако с их выводами не согласился Верховный Суд РФ, направивший дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области14. Верховный Суд указал, что предметом спора являются объект, созданный П. П. Чусовитиным как самостоятельное произведение, и опубликованная в путеводителе фотография. В свою очередь, архитектурный объект, который создавался коллективом авторов, предметом рассматриваемого спора не является.
При новом рассмотрении дела арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска15. Это решение было отменено судом апелляционной инстанции, который указал, что с учетом ограничений пункта 1 статьи 1276 ГК РФ «для правомерного использования фотографии, основным объектом которой является произведение изобразительного искусства (скульптура), которое постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения, ответчику следовало получить как согласие правообладателя фотографии, так и соблюсти права автора скульптуры»16. С апелляционным судом согласился Суд по интеллектуальным правам17. Наконец, определением судьи Верховного Суда РФ Издательскому дому было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам18.
Обращаясь с жалобой в Конституционный Суд РФ, Издательский дом указал, что пункт 1 статьи 1276 ГК РФ противоречит Конституции РФ в той мере, в какой он подлежит применению «к монументальным скульптурам, не позволяя учесть особый характер произведений, созданных в результате синтеза искусств и включающих в себя, наряду со скульптурой, произведения архитектуры; к каждой отдельной части комплексного произведения, включающего в себя несколько самостоятельных объектов авторских прав, не позволяя учесть особый характер самого комплексного произведения, созданного в результате синтеза искусств»19. Забегая вперед скажем, что этот довод остался без предметной оценки Суда.
Также заявитель указал, что в своей деятельности он полагался на отнесение монумента к произведениям архитектуры, которым в том числе посвящен пункт 2 статьи 1276 ГК РФ. Здесь можно отметить, что Издательский дом всего-навсего допустил ошибку в юридической квалификации, результатом чего стал проигрыш дела в арбитражных судах. Тем не менее Конституционный Суд РФ среагировал на такой довод и принял жалобу к рассмотрению по существу.
Кроме того, Издательский дом сослался на некую сложившуюся издательскую практику, согласно которой изображения достопримечательностей включаются в путеводители, чтобы привлечь туристов и распространить информацию, имеющую культурную и историческую ценность. Цель включения изображений достопримечательностей в путеводители не вызывает возражений. Однако она как таковая не отнесена к случаям свободного использования произведений. Иными словами, включение в путеводители таких изображений соответствует принципу общественной пользы, однако, если такое включение выходит за рамки свободного использования произведений, оно может совершаться только с согласия правообладателя.
Конституционный Суд РФ постановил, что пункт 1 статьи 1276 ГК РФ не противоречит российской Конституции. При этом Суд дал следующее общеобязательное толкование этого законоположения: при размещении в информационно-справочном материале о культурных, исторических и иных достопримечательностях (путеводителе) изображения произведения, являющегося скульптурой, которая расположена в открытом для свободного посещения месте, не требуется получения согласия правообладателя скульптуры и выплаты
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ ему вознаграждения, в том числе если соответствующий путеводитель распространяется в целях получения прибыли или на таком изображении скульптура может рассматриваться как основной объект использования. Соответственно, Суд указал, что решения судов по данному делу подлежат пересмотру.
На первый взгляд Конституционный Суд РФ просто проигнорировал текст пункта 1 статьи 1276 ГК РФ, не расширяющий свободу панорамы для издателей, которые используют изображения скульптур в путеводителях. Иными словами, исходя из текста закона характер издания, в котором использовано изображение, не имеет правового значения. По крайней мере, такова дискреция российского законодателя, на которую так часто любит ссылаться Конституционный Суд РФ, когда принимает так называемые отказные определения. Уровень юридической техники пункта 1 статьи 1276 ГК РФ весьма высок, а его текст определен и ясен для того, чтобы, применяя эту норму, понять, что два закрепленных ограничения свободы панорамы (изображение произведения – основной объект использования; изображение используется в целях извлечения прибыли) не делают никаких исключений для путеводителей.
Какие же доводы предложил Суд в качестве обоснования своего постановления, когда, по сути, юридическому формализму он противопоставил правовой реализм, при этом весьма радикальный? В самом общем виде юридический формализм жестко связывает судью семантикой применяемой нормы права, тогда как правовой реализм, напротив, основан на праве судьи апеллировать к доводам морали, политики и другим метаюридическим аргументам и на том, что толкуемый текст закона характеризуется семантической неопределенностью20.
Во-первых, в пункте 3.1 постановления Суд начал с мысли о том, что в качестве одного из ограничений исключительных прав в ГК РФ предусмотрены случаи свободного использования произведений. Фундаментом предлагаемой в постановлении № 33-П стало суждение, что установление таких случаев «преследует общественно полезную цель развития образования, культуры, возможностей занятия учебной, научной или творческой деятельностью, способствует реализации конституционного права на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям». К таким ограничениям Конституционный Суд отнес и свободу панорамы (ст. 1276 ГК РФ). Формально это не так, поскольку не все
ВОЛКОВ А. В., МАТВЕЕВ А. Г. ______________________________________________________ случаи свободного использования произведений нацелены на развитие образования, культуры и т.д. Действительно, судя по заголовку и содержанию статьи 1274 ГК РФ, указанные в ней случаи рассчитаны на использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях. Однако, например, закрепленный в статье 1272 ГК РФ принцип исчерпания исключительного авторского права преследует не такие цели, а балансирует интересы правообладателя и собственника экземпляра произведения, введенного в оборот с согласия правообладателя. Статья 1273 ГК РФ посвящена свободному воспроизведению произведения в личных целях, то есть она опять же не преследует цель развития образования и культуры. Этот перечень статей ГК РФ можно было бы продолжить и указать также статьи 1278, 1279 и 1280. По крайней мере, в зарубежных обзорах ограничений авторских прав воспроизведение произведений, находящихся в общественных местах, отнесено к самостоятельной группе свободного использования, а не к случаям, установление которых преследует развитие науки, культуры и образования21.
Преследует ли статья 1276 ГК РФ отмеченные Конституционным Судом цели? В некоторой степени да, если субъектами такого использования считать граждан, которые используют свободу панорамы для фотографирования на фоне памятников и последующего использования фотографий в рамках, очерченных пунктом 1 статьи 1276 ГК РФ. В то же время смысл обособления этой статьи состоит не в культурных, образовательных или информационных целях, а в том, что произведения, размещенные в открытых местах, частично растворяются в городской среде и что вследствие этого сохранение за ними полноценного режима объектов авторского права противоречило бы здравому смыслу. Именно степенью растворения произведений скульптуры и фотографии, с одной стороны, и произведений архитектуры, с другой, в городской среде можно объяснить дифференциацию регулирования, представленного в пунктах 1 и 2 статьи 1276 ГК РФ. Как представляется, такая дифференциация проведена российским законодателем весьма удачно. Произведения архитектуры больше растворены в повседневной городской среде, чем произведения скульптуры, поэтому исключительное право на первые объекты ограничено в пункте 2 статьи 1276 ГК РФ сильнее.
Однако в контексте рассматриваемого дела субъектами использования изображений скульптур являются издатели, а не обычные граждане. Соответственно, в данном случае интересам правообладателей противостоят интересы
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ издателей как предпринимателей, а не общества. Логику аргументации, избранную Конституционным Судом РФ, можно довести до того, что общественные интересы в сфере образования, науки, доступа к культурным ценностям неизбежно страдают, когда при издании книг, музыкальных произведений, репродукций картин, охраняемых авторским правом, правообладатели разрешают такое использование только за вознаграждение. Будучи доведенной до абсурда, эта логика ставит крест на идее авторского права как такового. Конституционный Суд совершенно упустил из внимания очевидный тезис, что право на доступ к культурным ценностям не означает бесплатного доступа. Кроме того, как показывает российская судебная практика, использовать изображения памятников в путеводителях можно правомерно на основании пункта статьи 1274 ГК РФ о цитировании. Именно ссылка на этот пункт позволила судам отказать истцу в иске в другом деле об использовании изображения той же скульптуры22.
Во-вторых, в пункте 3.2 постановления Конституционный Суд РФ прибег к сомнительным с точки зрения достоверности обобщениям и высказываниям эмпирического характера. Так, этот пункт начинается с утверждения, что сам факт размещения произведения в открытой городской среде «дает веские основания полагать, что и по самому своему предназначению это произведение призвано быть предметом всеобщего внимания, включая и использование его изображения в информационно-справочных изданиях». Вообще, цель создания практически любого произведения литературы и искусства состоит в том, чтобы оно было предметом всеобщего внимания. Однако из этой очевидной цели никак не следует то, что ее достижение должно реализовываться через свободное использование произведений. Здесь же Суд использовал стандартную формулировку о «нарушении баланса частных и публичных интересов вопреки разумным ожиданиям участников оборота», при этом не раскрыв, на наш взгляд, надлежащим образом, чем буквальное прочтение пункта 1 статьи 1276 ГК РФ нарушает этот баланс и в чем состоит разумность ожиданий участников оборота.
Далее Суд погрузился в консеквенциальную этику утилитаризма: «Иной подход может привести к постепенному отказу от использования соответствующих изображений в информационно-справочных изданиях, ориентированных, в частности, на туристическую сферу. В результате может снизиться интерес в том числе к таким объектам, назначение которых состоит как раз в увековечивании исторической памяти и в популяризации сведений о тех или иных лицах либо событиях». Оценивая это утверждение, можно сказать, что действующее в России авторское право не ставит перед издателями путеводителей неразумные и непреодолимые препятствия: 1) сроки действия исключительных прав на многие скульптуры, находящиеся в общественных местах, уже истекли; 2) подпункты 1, 2 и 5 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ позволяют свободно использовать изображения таких скульптур в очерченных пределах; 3) лицензионные платежи правообладателям указанных произведений, по нашему мнению, не являются самой существенной статьей затрат издателей. Профессор Г. А. Гаджиев, выступавший судьей-докладчиком по ряду ключевых дел в сфере интеллектуальных прав, пишет: «Постановление КС РФ о штрафной компенсации интересно также тем, что в нем затронута основная проблема “права и экономики” – каким должно быть право: оно должно в большей степени исходить из утилитаристских целей эффективности или же по-прежнему в нем должна главенствовать идея справедливости, то есть деонтологические цели и ценности?»23 По аргументированному мнению ученого, решение Конституционного Суда РФ о частичной неконституционности положений ГК РФ о штрафной компенсации за нарушение исключительных прав обосновано деонтологическими доводами, а не принципом эффективности24. Сказанное подтверждает, что сегодня российский правопорядок и Конституционный Суд РФ вряд ли готовы оценивать нормы авторского права через призму принципов утилитаризма и учения «право и экономика». Это не означает, что путь российского авторского права в утилитаристскую философию закрыт навсегда.
В-третьих, весь четвертый пункт постановления № 33-П, с нашей точки зрения, посвящен рассуждениям, не имеющим прямого отношения к сути рассматриваемого дела. Здесь Конституционный Суд говорит не об ограничениях абсолютного исключительного права, а о моделях договорных обязательств с участием автора. При этом фактически обладателем исключительного права далеко не всегда является автор. В частности, наиболее острой критики заслуживают абзацы 4 и 5 этого пункта. По мнению Суда, если автор согласился с использованием его скульптуры в открытом месте, то он не мог не осознавать вероятность фото- или видеофиксации его произведения со стороны
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ неограниченного круга лиц; более того, при заключении договора он, по сути, выразил свое согласие на последующее распространение изображения его произведения. Такого правового нигилизма, честно говоря, трудно было ожидать от Конституционного Суда РФ. Его высказывание, которое, конечно же, будет интерпретировано юристами в качестве правовой позиции, прямо нарушает фундаментальное правило пункта 1 статьи 1229 ГК РФ о том, что «правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)».
Однако Конституционный Суд пошел еще дальше и, на наш взгляд, не только исказил и перевернул с ног на голову модель абсолютного исключительного права, но и необоснованно применил к рассматриваемым отношениям статью 10 ГК РФ: «В таком случае если лицу, которое воспроизвело и распространило фотографическое изображение произведения в информационносправочном материале, тем самым популяризирующем и соответствующий результат интеллектуальной деятельности, автор или иной правообладатель адресует требование о вознаграждении, о компенсации за нарушение исключительного права и тому подобные требования на том основании, что он согласия на воспроизведение и распространение не давал, то это может быть расценено как злоупотребление правом». Злоупотребление правом всегда квалифицируется на основе установления совокупности конкретных обстоятельств дела, на что в очередной раз недавно обратил внимание Верховный Суд РФ25. Ранее один из авторов настоящей статьи пришел к выводу, что при злоупотреблении правом «недобросовестность проявляется в скрытой эксплуатации норм гражданского права, в извращении содержания предоставленных лицу правовых возможностей, в знании того, что он нарушает закон»26. Вряд ли обоснованно утверждать наличие всех этих признаков в поведении лиц, обратившихся за защитой исключительного права на основании четкого и понятного пункта 1 статьи 1276 ГК РФ. По нашему мнению, Конституционный Суд РФ создал абстрактную правовую позицию, которая может привести к
ВОЛКОВ А. В., МАТВЕЕВ А. Г. ______________________________________________________ весьма сомнительным последствиям для российского авторского права. Причем эта позиция сформулирована как бы между делом, а не включена в резолютивную часть постановления № 33-П, что создает правовую неопределенность. В этом смысле на более высоком уровне написано постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П, где критерии недобросовестного поведения правообладателя раскрыты более четко, а сама правовая позиция включена в резолютивную часть судебного акта27.
В-четвертых, в пункте 5 постановления № 33-П Суд, использовав сложный и туманный оборот «не исключает отсутствия необходимости применения», сформулировал мысль о том, что само по себе извлечение издателями путеводителей прибыли, осуществляемое с целью популяризации мест, открытых для всеобщего посещения, допускает, что условия пункта 1 статьи 1276 ГК РФ о получении согласия правообладателя могут не применяться. Таким витиеватым способом Конституционный Суд еще раз проиллюстрировал свой подход правового реализма, согласно которому семантически ясное правовое высказывание не имеет значения для правоприменения, которое ориентируется на политико-правовые аргументы, не считаясь с ясным и определенным текстом закона.
В-пятых, в пункте 6 постановления № 33-П Суд обратил внимание на то, что по делам об использовании изображений скульптур, находящихся в открытых местах, наличествует противоречивая судебная практика. Одно из таких дел уже упоминалось выше в настоящей работе (дело № А60-52722/2018). Во избежание неравенства перед законом и судом Конституционный Суд РФ решил расширить сферу свободного использования скульптур, находящихся в месте, открытом для свободного посещения. Здесь, как представляется, Суд не учел того, что различие судебной практики проистекает не из неопределенности пункта 1 статьи 1276 ГК РФ, а из того, что в этих делах суды применяли разные нормы права, учитывая позиции ответчиков. Те ответчики, которые смогли убедить суды, что использование изображения скульптуры соответствует условиям правомерного цитирования, в результате выиграли дела. Таким образом, в данном случае, на наш взгляд, никакой угрозы неравенства перед законом и судом не было. Напротив, такое неравенство возникнет при
_______________________________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ НАУКИ применении пункта 1 статьи 1276 ГК РФ с учетом постановления № 33-П, поскольку в нем издатели путеводителей необоснованно поставлены в более привилегированное положение по сравнению с другими лицами, например издателями энциклопедий.
Итак, по сути, Конституционный Суд РФ не истолковал пункт 1 статьи 1276 ГК РФ, а изменил его путем создания в нем специальной нормы для издателей путеводителей. В этом случае более правильным вариантом было бы признание данного пункта не соответствующим Конституции РФ.
Наконец, есть еще одно существенное упущение в рассмотренном акте. Согласно статье 13 Соглашения ТРИПС, абзацу 3 пункта 5 статьи 1229 ГК РФ ограничения и исключения в авторском праве должны соответствовать так называемому трехступенчатому тесту: «Ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей». Поскольку в постановлении № 33-П состоялось расширение сферы свободного использования произведений, постольку субъекту правотворчества, совершившему такой акт, следовало проанализировать состоявшееся расширение с точки зрения трехступенчатого теста.
Список литературы Свобода панорамы в российском авторском праве и ее понимание Конституционным судом РФ
- Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2010. EDN: ZOCHNN
- Гаджиев Г. А. Легитимация идей "права и экономики" (новые познавательные структуры для гражданского права) // Вестник гражданского права. 2017. Т. 17, № 6. С. 108-173. EDN: YKXBEM
- Гюго В. Речи на международном литературном конгрессе // Собрание сочинений: в 15 т. / пер. с фр.; под ред. В. Н. Николаева, А. И. Пузикова, М. С. Трескунова. М.: Гос. изд-во худож. лит. 1956. Т. 15: Дела и речи. С. 666-680.
- Дементьева Е. Расширение сферы свободного использования произведений в информационно-телекоммуникационных сетях // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 1. С. 13-24. EDN: VBHFFP
- Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр. М.: Ладомир, 2002.
- Пиленко А. А. Международные литературные конвенции. СПб.: тип. Морского министерства и Главного адмиралтейства, 1894.
- Стратегии судебного толкования и принципы права: учеб. пособие / Е. В. Тимошина, Н. С. Васильева, А. А. Краевский [и др.]; под ред. Е. В. Тимошиной. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022. EDN: LSTGGW