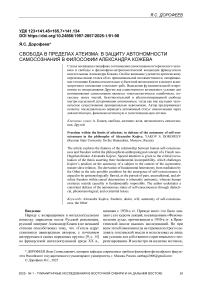Свобода в пределах атеизма: в защиту автономности самосознания в философии Александра Кожева
Автор: Дорофеев Я.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфике соотношения самосознания исторического человека и свободы в философско-антропологической концепции французского неогегельянца Александра Кожева. Особое внимание уделяется критическому переосмыслению тезиса об их принципиальной несовместимости, оспаривающего позицию Кожева относительно субъектной автономности в аспекте асимметричного отношения «господин-раб». Выведение фундаментальной гетерономии из опосредования Другим как единственного возможного условия для возникновения самосознания является эпистемологически ошибочным, поскольку поиск чистой, безотносительной и абсолютизированной свободы внутри каузальной детерминации антиномичен, тогда как вне каузации человеческое существование принципиально невозможно. Автор предпринимает попытку последовательно оправдать автономный статус самосознания через диалектическую, феноменологическую и экзистенциальную оптики.
А. кожев, свобода, желание, воля, автономность самосознания, другой
Короткий адрес: https://sciup.org/170209580
IDR: 170209580 | УДК: 123+141.45+165.7+141.134 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/91-98
Текст научной статьи Свобода в пределах атеизма: в защиту автономности самосознания в философии Александра Кожева
Наряду с возвращением в интеллектуальную повестку марксизма после Русской революции, русский эмигрант Александр Кожев в не меньшей степени способствовал тому, что «Гегель вдруг становится авангардным автором, с почтением цитируемым в самых передовых кругах» [9, с. 15] во французской интеллектуальной среде XX в., начиная с 1930-х гг. Прежде всего это было связано с его курсом лекций, посвященным «Феноменологии духа», прочитанным в 1930-е гг. в Практической школе высших исследований. Но при всем этом Кожев никогда не стремился строго следовать гегелевской мысли и использовал ее лишь как условие для собственного оригинального теоретизирования. И несмотря на наличие мотивов, перекликающихся с марксизмом, его едва ли можно отнести к ортодоксальным приверженцам этой идеологии1. В годы преподавания своего лекционного курса он заявлял, что является последователем Иосифа Сталина, но в действительности этот «сталинизм» носил исключительно провокационный характер, поскольку, как отмечает А.М. Руткевич, по своим убеждениям Кожев был «скорее реакционером» и, в отличие от своей супруги, голосовавшей за социалистов, «занимал куда более “правую” позицию и высоко ценил Де Голля» [17, c. 17]. Хотя Кожев использует гегелевские термины «раб» и «господин» для обозначения угнетенных и угнетающих классов в своей интерпретации всемирной истории, его понимание свободы не редуцируется к марксистскому подходу, основанному на «формировании классового сознания» и «коллективной борьбе пролетариата с угнетателями», охватывая более широкий философский ландшафт.
Несмотря на свою секуляризованность, гегельянство Кожева сохраняет спекулятивный подход Гегеля, в котором истина и свобода в процессе самопознания духа образуют нераздельное единство. Гегель как мыслитель, усматривавший в историческом процессе определенную целесообразность, переносил ее как нечто имманентное на будущее, что, как тонко заметил Э.М. Чоран, «значит в более или менее откровенной форме признавать Провидение» [21, c. 267], и философский проект Кожева грешит подобными «недорасколдо-ванностями мира». Он объявил, что «независимо от того, что думал на этот счет сам Гегель, Феноменология – это философская антропология» [11, с. 44], но, как и в гегелевской философии, истина у Кожева не статична: она формируется через последовательные диалектические моменты, каждый из которых отсылает к истине и содержит в себе лишь ее часть. В своей работе «Атеизм» 1931 г., концептуализируя и феноменологически анализируя атеистического субъекта, Кожев пишет, что «“человек в мире” дан себе “снаружи” в самосознании, а в самосознании он дан себе как свободный, или, вернее, самосознание и есть свобода» [10, с. 135]. Увидеть корень непонимания данного утверждения несложно: на первый взгляд, вывод лишен логической убедительности, при этом речь идет о Рабе – центральном акторе сцены всемирной истории взаимодействия между
Господством и Рабством. В этом случае на скомканную попытку Кожева осветить данной формулировкой связь между различными регионами бытия действительно ничто не мешает ответить, что «его данность себе как свободного – это всего лишь иллюзия или абстрактная свобода в мысли, в то время как от своего желания, а значит и от своего существа, он все еще оказывается фундаментально отчужден» [6, с. 37]. Но в данной статье мы предпримем попытку защитить и обосновать позицию Александра Кожева. И начнем с отправного пункта его гегельянства.
Тонус уверенности
В соответствии с тем, что основное содержание и новизну гегелевской философии Кожев усмотрел в ее стремлении «понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект» [11, c. 657], уже в предисловии своей книги «Введение в чтение Гегеля» он начинает с дефиниции: «человек – это самосознание» [11, c. 9], т.е. субстантивированный2 и овнешненный абсолютный дух. Обратимся к Гегелю, для которого сущность духа – это «свобода, абсолютная отрицательность», а также «независимость от некоего другого, отношение к самому себе» [4, c. 25]. Если корреляция свободы с негативностью легла в основу дуалистической онтологии Кожева, представленной публике в ходе его лекционного курса в 1930-е гг., где человек трактовался как «воплощенное отрицание», то корреляцию свободы и «отношения к самому себе» мы обнаруживаем в «Атеизме» как присущую сознанию неограниченность, феноменологически данную ему «изнутри»: «“Человек в мире” дан самому себе как конечный и смертный не “изнутри”, а “снаружи” ... Его существование, правда, иногда не дано ему как бесконечное (infini), но – во взаимодействии, т.е. “изнутри” – ему не дана и его конечность, граница, т.е. в этом смысле оно дано как безграничное (indéfini)» [10, c. 130]. В этом отрывке прослеживаются две контраполярности са-мовосприятия, которые отразятся в основе онтологическо-темпорального дуализма Кожева, построенного на оппозиции «ничтожествующего» в бытии человека и налично-данной природной реальности. Выявленную в процессе интроспективной контемпляции «безграничность» существования как некую идеальную имманентность, данную «во взаимодействии» с внешней конечностью «себя в мире», мы определяем как profundum sen- sorium libertatis - основание сознания переживать свободу именно как потенциальное состояние, исходно не обладая ею в качестве внешнего актуального условия. В онтологии и антропологии Ко-жева во «Введении» эта идеальная имманентность обретает свое значение в человеческой природе сугубо через знак минус и подчеркнуто наделяется «отрицательным» потенциалом как «всегда открытая человеку возможность подняться (transcender) над собственной природой» [11, c. 75], но размыкается и актуализируется она в свободном или освобождающем действии. И.С. Курилович отмечает, что для Кожева «мыслимая бесконечность “потенциальна”, т.е. является “безграничностью” (interminatum), тогда как “актуальная” бесконечность (infinitum) признается немыслимой и сводимой к “потенциальной”» [15, с. 33], и это подкрепляет нашу интуицию относительно доступной восприятию самосознания свободы исключительно «потенциального» характера. Мы не собираемся оспаривать атеистическую установку Кожева, обусловленную невозможностью помыслить актуальную бесконечность. Во-первых, как и Кожев, мы полностью солидарны с Аристотелем в том, что «беспредельное существует в возможности не в том смысле, что оно когда-то будет существовать отдельно в действительности, оно таково лишь для познания. Из того, что делению нет конца, следует, что действительность у беспредельного имеется в возможности» [1, c. 242]. Во-вторых, учитывая не всегда очевидную и часто смешиваемую неэквивалентность между невозможностью бесконечности и невозможностью ее восприятия, мы предполагаем, что атеизм Кожева в действительности представляет собой скрытое намерение определить границы человеческого сознания без опоры на какой-либо «императив».
Прежде чем столкнуться с Другим в борьбе за чистый престиж, человек «уже полагает себя самодостаточным и приписывает себе абсолютную значимость» [11, c. 20]. Согласно Кожеву, на этом этапе субъективная достоверность не является безусловным знанием о себе самом. Обрисовывается некая установка, в которой представление о себе ограничено рамками наивно-естественного восприятия собственного существования как непосредственно данного и достоверного. Разумеется, то, что воспринимается как достоверное, формирует основу уверенности, однако «адекватность и аподиктичность очевидности не обязаны идти рука об руку» [8, c. 36]. Мы могли бы не углубляться в подробности и ограничиться предположением о некой перцептивной версии уверенности, но, вероятно, Кожев, не без влияния Гуссерля, в рамках своей концепции антропогенеза прибегнул к синекдохе, экстраполировав на предысторическое сознание то, что Гуссерль определял как верование (Glaube). Верование, равно как и все его производные, абсолютно не связано с религиозной верой. По мысли Гуссерля, это один из базовых интенциональных актов как неосознанное, но «специфическое полагание действительности бытия (или недействительности) воспринимаемой предметности» [16, c. 426], которое вплетено в акт любого восприятия. Достоверность верования ничем не обусловлена и не осложнена, «это просто верование, верование как таковое» [16, c. 427], но при этом она служит не-модализированной основой, выступающей в роли проформы всех бытийных модальностей, а также фундирует все вытекающие из нее бытийные характеристики. Иными словами, это фоновая и сама собой разумеющаяся форма интенции, через которую сознание «полагает» или «утверждает» существование чего-либо, даже если это мираж. В антропогенезе Кожева верование становится стационарным: человек пленен иллюзией достоверности, укорененной в восприятии первоначальной очевидности. Это также сопоставимо с гуссерлевским понятием «несовершаемого» co-gito, которому присущи «маячащие» акты, где «Я, “живущее” в них, расценивается не как “совершающий”, “осуществляющий” субъект» [16, c. 432], но опять же у Кожева это обретает гипертрофированный и стационарный характер. По утверждению Н.В. Мотрошиловой, «действительная вера – она “маячит” …мы веруем, прежде чем знаем об этом» [16, c. 432], и, если следовать логике Ко-жева, в действительности узнать что-либо возможно, только подвергнув себя гегелевскому Auf-hebung, т.е. в борьбе и посредством борьбы. С возникновением асимметричного взаимоотношения господина и раба уверенность по-прежнему остается нерефлектированным переживанием очевидности, но, с другой стороны, новоявленному самосознанию будет свойственно уметь делать ее объектом своей рефлексии.
В «Атеизме» Кожев пишет: «Данный себе “изнутри”, он дан в тонусе уверенности» [10, c. 130]. Мы не стремимся утверждать, что эта уверенность не просто сопровождает ноэзис как его модальность, но и одновременно «проистекает» из ноэма-тического ядра в активном переживании внутренней «безграничности», о которой вскользь упоминает в «Атеизме» Кожев. Скорее тонус уверенности укоренен в очевидности, которая актуализируется через это переживание. «Безграничность» выступает «грунтом» уверенности, но не ее причинным фактором, поэтому имеет смысл рассматривать ее как коррелят имманентного « indefini », независимо от того, применяется ли «положительный» или «негативный» подход к интерпретации онтологической идентичности человека, учитывая, что
«нe-бытие (Nicht-Sein) есть только модальность бытия как такового» [8, c. 78]. Мы не случайно прозвали этот «грунт» «глубинным чувствилищем свободы». Дело в том, что очевидность как фундамент уверенности «изменяет модальность коррелятивно прочим модальным вариациям бытия как такового – таким как возможное бытие, вероятное бытие» [8, с. 78], т.е. модифицирует и в некотором смысле определяет модус восприятия бытия как потенциального. Никакое возможное или вероятное бытие не предстает перед самосознанием как таковое без той очевидности, которая осуществляется на основе ясного интуирования переживае-мого 3 . Особенно важно для нас подчеркнуть, что это распространяется на те модальные вариации бытия, истоки которых локализованы в волевой и душевной сфере [8, c. 78], т.е. вне сферы познавательных актов, связанных с восприятием, пониманием и суждением. Разумеется, волевые акты могут соотноситься с перечисленным, но они обретают тетическую форму 4 лишь в том случае, если Желание находит в этом способ выразить себя. Если воля в противоположность влечению представляет собой акт, благодаря которому подтверждается некоторая ценность, признанная таковой, или благодаря которому стремятся к ней, то мы вынуждены признать наличие семантического сходства кожевского концепта антропогенного желания с волей. Однако перспектива осознанного воления открывается человеку лишь после того, как он впервые отличает себя от вещей и от Другого – на положении Раба, для которого неотъемлемой частью душевной жизни становится страх смерти. С этого момента, как выразился Гегель, «с самосознанием мы вступаем теперь в родное ему царство истины» [2, c. 92].
Актуализация человеческого
Заострим внимание на роковой дилемме между жизнью и смертью при становлении феноменологической асимметрии господина и раба. Мы не утверждаем, что «выбор поставлен негативным образом» [6, c. 35], ведь сама интенция, лежащая в основе этого выбора, изначально не подразумевает утрат, хотя воспринимать и оценивать его как выбор между потерями допустимо субъективно с ретроспективной точки зрения или с позиции безучастного наблюдателя. Дело в том, что совершающий выбор в пользу смерти в действительности не знает о смерти, потому что его
-
3 Сознание интуирует возможное бытие, например, если оно представляет и понимает, что могло бы оказаться в другом месте или принять другое решение.
-
4 «Любая характеристика, “тетическая” в широком смысле, претерпевает преобразование, принимая форму “модальности бытия в самом широком смысле”. Сказанное, по Гуссерлю, относится к другим сферам актов – вкуса, воли, желания и т.д.» [16, c. 431].
желание признания подчиняет себе ее страх. Это – актуализация человеческого, направленная на приобретение, а не на потерю. К тому же никому неведомо, что именно произойдет за порогом, который таким образом переступается, и речь не про загробный мир. Совершающий выбор в пользу жизни утверждает жизнь как естественное чувственное бытие под диктатом животного страха. Это – реактуализация природного, направленная на сохранение того, что уже и так есть, на привычные пределы «витального интереса».
Постфактум, когда «один есть только признаваемое, другой – только признающее» [2, c. 100], Раб обнаруживает свое самосознание в служении Господину, «страх перед господином есть начало мудрости» [2, с. 105]. Безусловно, сложившаяся диспозиция – это «трансцендентальное условие возможности его самосознания как такового» [7, с. 116], безальтернативный старт знания о себе. Однако мы не спешим выводить из этого фундаментальную гетероном-ность 5 . Правомерно будет говорить скорее об инсталлированной фасадности эффекта гетерономии, который всегда охватывает лишь внешнюю предметную сторону сущего в отдельно взятом моменте, извлеченном из интегрированного в историю жизненного потока. Это только отблеск каузальной замкнутости и контекстуальная наружность исторического обстоятельства, которая не инфильтрирует самосознание, соответственно, не определяет его индивидуальную динамику и содержание. Локальная супер-вентность между уровнями реальности Господина и Раба отсутствует, т.к. квалитативные ментальные состояния последнего могут преобразовываться в поведение, которое не просто не детерминируется желанием первого, но и остается для него непредсказуемым.
Откровенно говоря, поиск свободы в ее абсолютизированном и чистом виде утопично совмещать с надеждами на что-то «человеческое, слишком человеческое», ведь «чистая свобода есть, в своем проявлении или обнаружении, смерть» [12, c. 171], которая «не может быть реализована, ни даже востребована» [12, с. 174]. Самосознание есть свобода, поскольку в процессе волевого напряжения по отношению к внешнему «гетерономному аспекту» оно способно самопроявиться, выбирая те импульсы, которые желает выразить, а также определяя степень их выраженности. Свобода – это не самоданность, а скорее наступающая аристотелевская δυναμις ποιητική , потенциал и тенденция «ничтойствовать» и ничтожить, т.е. совершать действие, факт которого будет «помещением
-
5 «Самосознание без этой фундаментальной гетерономности не существует вовсе» [7, с. 116].
“ничто” между начальным состоянием и состоянием конечным» [9, с. 38]. Во всяком индивидуальном свершении самосознание проявляет свою онтологическую вытесненность и неполноту относительно «будущего себя»; однако эта вытес-ненность неискоренима и является необходимым моментом свободы и истины.
Истины в собственном смысле слова для Ко-жева не существует, она есть адекватное раскрытие реальности, которое, по его мнению, в совершенной мере возможно достичь лишь Мудрецу6. Но даже если этот идеал – нечто большее, чем просто путеводный ориентир, для всех остальных целостное восприятие реальности (=истины) остается невозможным по определению, ведь сама возможность ее восприятия в частном виде является результатом ее радикального несовпадения с бытием. Сам опыт восприятия гарантирован присутствием вне явления; по большому счету, он только и возможен потому, что субъект находится вне явления. Идея стремления к полному объективному пониманию истины априорно ведет к аннулированию субъектной вытес-ненности, т.к. воспринимающий возможен как внешний, противоположный и чуждый относительно реальности субъект. Абсолютное усвоение истины есть не что иное, как неразличимая с ней слитность, не подразумевающая внешнего наблюдателя. Наличие субъективного момента предполагает трещину в бытии – брешь, существование которой возможно лишь через фундаментальное и радикальное различие. Она пытается выжить, она отслеживает ошибку, и ее можно считать реакционной в плане активного отрицания и сопротивления окружающей несовершенной реальности.
Несомненно, в мортализации, в ходе которой Рабу под страхом смерти приоткрывается его «ни-чтойная» сущность, кроется «принципиальный аргумент в пользу свободы и автономности эго, который сохраняет свою силу» [7, с. 119], и мы не находим основания возразить Кожеву, даже если исходить из того, что для него самого «человеческое животное – биологическое существо, поэтому абстрактное ничто человеческого желания всегда уже “обведено” телом» [7, с. 120]. Да, человек раскрывает себя как ничто в смерти, но сам при этом невозможен без тела. Его первый опыт осознания аутомортальности сопряжен с моментом осознания конечности своего тела, и, по сути, является его индивидуацией, т.е. осознание конечности своего тела – это то же самое, что и субъективное начало в принципе. Смертность нарушает непрерывность бытия, и это опять-таки следствие осознаваемой телесности, ведь тактильный аспект предметов доводит человека не только до представления о непрерывном окружающем пространстве: телесно сталкиваясь с материей, человек быстро приходит к выводу о ее противодействии, которое может его повредить и в конечном счете убить7. Трудно сказать, что возникает раньше – осознание личной смертности или способность к мышлению, но напрашивается мысль об их одновременном рождении.
Мы не намерены критиковать Кожева за отождествление антропогенного желания с «пустотой» или «ничто» как с принципиально неопределенными и крайне абстрактными понятиями. Если нам удалось верно уяснить его идею, он хотел таким образом обозначить неосмысля-емую, чистую и недефинируемую, если угодно, «мысль», которая способна проявиться через элементы усваиваемого спектра интеллектуального, а эти элементы, в свою очередь, проявляются за счет ограничения самой этой чистой «мысли». Разумеется, желание можно интерпретировать как нехватку, однако «лаканизация» кожевского желания сведением тела к ее орга-низации8 не только существенно не проясняет суть данного концепта, но и ведет к превратному представлению о нем. Такой ход может показаться даже обоснованным, например, если исходить из одного только несуществования различия между чем-то и ничем, но, несмотря на это, оно обретает свою валидность при выведении нового различия, которое дает возможность отделить нечто от ничто [9, с. 40]. И то, что постоянно привносит новые различия в бытие, является Действием9, выражающим не волю сохранить свое бытие, а желание не быть, т.е. самим человеком. Кожев подчиняет различие человеческой идентичности и, по сути, истолковывает его как часть идентичности и «целостности» (сохраняющейся и самопревосходящей) [11, с. 61], одновременно рассматривая различие как инструмент их достижения. В связи с этим активное самосознание можно трактовать как итеративное постоянное отличие от самого себя, как вновь и вновь воспроизводящееся предвосхищение бытия, которого еще нет.
В своем возобновляющемся Действии, мотивированном страхом смерти, человек начинает существовать не только для Другого, но и для себя. Поэтому, к примеру, когда он мерзнет, и если он осознает, что его тело мерзнет, то он основывается на своем собственном понимании контраста с теплом, которого ему не хватает. Несовершенство подразумевает некую контрастность с чем-то, относительно чего оно несовершенно, и оно несовершенно прежде всего относительно самого себя. Вот только одного факта наличия пока еще живого тела недостаточно, чтобы это можно было как-то осознать. Очевидно, «ничто, взятое само по себе в качестве пустоты или отсутствия, … не подразумевает некоего упорства или продуктивности» [7, c. 122], но то же самое, кажется, можно сказать и про взятое само по себе живое тело. Потому Кожев и «обводит» им ничто, высветив «недостаток», порождающий в сознании биологического существа не только символические структуры для выживания, но и то, что побуждает его идти наперекор своей природной предрасположенности, толкая на экзистирование и впоследствии активизируя в нем Речь. Смерть 10 обнаруживает себя в субъективном бытии, участвует в бытии через личный опыт смерти, однако в то же время Кожев заинтересован в поиске свободы, которая не привязана к пределу возможного опыта. Этот поиск является единственным реальным Смыслом внутри бытия. И если мы сосредоточиваемся на человеке как на некой корпоральной системе, задаваясь вопросом, «где в животном или человеческом биологическом организме находиться то зияние, о котором здесь идет речь» [7, c. 121], то мы обессмысливаем такой поиск.
Социококон
Важно рассмотреть и социальный аспект формирования самосознания. Как было выявлено М. Хайдеггером, именуя это « падением присутствия» [20, c. 175], человек отрывается от реальности, и порой настолько, что единственным, что он воспринимает как нечто имеющее к ней отношение, становится социум. С увеличением числа процессов и объема знаний, необходимых для выживания, человеческая нервная система перестает справляться с этими нагрузками. Постепенно из интуитивно понятной реальности мы переходим в социум, где человек, анализируя огромное количество микропроцессов, которые обрекают его нервную систему на неминуемый перегруз от самых простых действий, тем самым расходуя его ресурс мышления на самые бытовые и повседневные задачи. Социум, однако, не является агентом
-
10 «Человек, в своей человеческой, или “говорящей”, экзистенции, есть не что иное, как смерть: более или менее отсроченная и осознающая саму себя» [12, c. 160].
реальности, поскольку его основная цель – обеспечить продуктивное соучастие множества людей в масштабном общежитии, одновременно принуждая их сводить свои контакты и взаимодействия друг с другом к «нормам» и «этикету» – формулам, позволяющим быстро коммуницировать между собой. Социум требует форму, исключая честность. С одной стороны, социум служит проводником блага для всех, с другой – надзирателем, контролирующим каждого, при этом принося в жертву полноту опыта общения. Общество нормализует своих участников, подавляя их естественные сигналы. Однако это происходит не из злонамеренности, а скорее как неизбежное архитектоническое условие существования самого социума, словно отражающее «всеобщую волю». Кожев пишет, что «с того момента, как “всеобщая воля” утратила свой божественный характер, … могла появиться идея, согласно которой “всеобщая воля” находит свое выражение в воле большинства» [13, c. 64], в этом смысле социум представляет собой Господина, замещающего Бога в свете секуляризма. И здесь важно отметить, что в отличие от Гегеля, для которого парадигма интерсубъективности – это «являющийся бог среди тех, кто знает себя как чистое знание» [2, c. 361], т.е. результат становления отношений взаимного и добровольного признания, парадигма интерсубъективности у Кожева – это конфликт 11 . Под взаимным признанием подразумевается взаимное принуждение, которое «не ведет к возникновению “Мы” или к нравственной жизни в гегелевском понимании» [22, p. 369]. Понятно, что индивидуальный субъект не может утвердить свою идентичность в изоляции, но он также не сможет утвердить ее и в социуме, пребывая в озабоченности настоящим, будучи втянутым в подвижное «вихрение несобственности людей» [20, c. 179]. Тем самым он только продолжит покорно обслуживать интересы коллективного Господина, прельщаясь своей интериоризированностью в его ткань, оставаясь точкой размытого множества. Легалистское невоспротивление интерсубъективной согласованности не подразумевает борьбы за признание, не ведет к преодолению страха смерти, стало быть, перекрывает путь к истинной самостоятельности и свободе. В силу Желания социальная борьба неотвратима. Как справедливо замечает В.И. Стрелков, «абсолютность отрицающей способности человека, равно как и его конечности, задает абсолютность гетерогенности “человеческой среды”» [18, с. 29], что подтверждается не только колоссальным объемом социальных противоречий
-
11 Кожев не отрицает полностью саму возможность взаимного признания как такового; он отвергает гегелевскую идею о том, что это теофанический разворот, изначально гарантированный предустановленной гармонией.
и цивилизационных столкновений, гонкой вооружений, классовым, духовным и культурным антагонизмом, но и соревновательным индивидуализмом в суженных границах персональных экзистенций, где одна сторона мнит себя человеческой «цветущей сложностью», воспринимая другую как природную «первичную простоту».
Является ли достаточным основанием приумножать силу общественных отношений тот факт, что самосознание формируется через взаимодействие с другими? Конечно, можно утверждать, что «зараженность человеческого желания символическим подразумевает, что человек живет в мире социального, интерсубъективного, а значит, так или иначе зависит от других» [7, c. 123], но в таком случае мы оказываемся не в неизбежной гетерономности, а в ситуации онтологического патернализма, ложно отождествляющего инструмент восприятия с воспринимаемым. Ведь смысловая матрица – это инструментарий для проявления отсутствующего в сфере опыта, пусть и в сфере смыслов, а не неизменная и неподвижная сущность. Именно поэтому человеческое мышление, к недовольству многих, но все же требует адекватной для себя роли. Тот факт, что бабочка развивается в куколке, совсем не говорит о ее неспособности из нее выбраться. Аналогичным образом, наличие интерсубъективной матрицы смыслов не означает, что самосознание должно оставаться в ней в застывшей форме.
Заключение
Присущая кожевской мысли экзистенциальная патетичность явно снимает грузность с «осознанной необходимости», приоткрывая исторический динамизм желания в процессе становления через борьбу, негацию и преодоление природной обусловленности. Сюда также следует отнести и момент соотнесенности с Другим, ведь, приходя таким образом к осознанию себя, человек сохраняет потенциал к выходу за пределы «гетерономной западни», что в результате порождает и тонизирует исторический процесс.
Антиномичность поиска абсолютной и вне-каузальной свободы в условиях причинной зависимости свидетельствует не столько о гетерономии самосознания, сколько о том, что мышление как процесс само по себе неавтономно и несамодостаточно. Не мышление выражает себя в стремлении быть тем, что оно не есть, а воля, способная принимать интеллектуально ориентированную форму, вовлекая элементы рационального осмысления в свою структуру. По этой причине есть вероятность их некорректного отождествления. Интеллектуально-ориентированный волевой акт выражает себя не в утверждении того, что есть, а в утверждении желаемого как того, что должно быть через отрицание, являясь по сути сознательным актом проникновения в тайну нового. Это сближает его с актом религиозной веры, которая сходным образом опирается не на наличное, а на должное. И если Кожев в самом деле интересовался вопросом о возможности атеистической религии, то веру, лежащую в ее основе, можно было бы дефинировать как интеллектуальную волю и готовность принимать предельные последствия свободы.
В кульминации пьесы Фигейредо «Лиса и виноград» Эзопа убеждают признать себя рабом ради сохранения жизни, на что Эзоп отвечает: «Я выбираю наказание свободных. Такова моя воля … Где ваша пропасть для свободных людей?» [19]. И, выбрав свободу, сам направляется к пропасти.