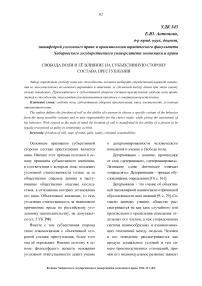Свобода воли и её влияние на субъективную сторону состава преступления
Автор: Антонова Е.Ю.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции и правоприменения
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Автор определяет свободу воли как способность человека выбирать определённый вариант поведения из многочисленных возможных вариантов и отвечать за сделанный выбор, давая при этом оценку своему поведению. Применительно к субъективной стороне состава преступления свобода воли проявляется в способности лица юридически признаваться виновным в совершении преступления.
Свобода воли, субъективная сторона преступления, вина, вменяемость, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14319435
IDR: 14319435
Текст научной статьи Свобода воли и её влияние на субъективную сторону состава преступления
Основным признаком субъективной стороны состава преступления является вина. Именно этот признак положен в основу принципа субъективного вменения, в соответствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда по российскому уголовному законодательству, не допускается (ст. 5 УК РФ).
Вместе с тем субъективная сторона тесно взаимосвязана с объективной стороной состава преступления, более того она её порождает. Именно поэтому в основе философского аспекта основания уголовной ответственности лежит учение о детерминированности человеческого поведения и учение о свободе воли.
Детерминация – понятие, производное от слов «детерминант», «детерминировать». Латинское слово determinare означает «определять». Детерминация – процесс обусловливания, определения [19, с. 161].
Детерминизм – это учение об объективной закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений [9, с. 29]. Согласно данному учению, общество рассматривается не как хаос случайного или произвольного проявления поведения отдельных его членов, а как упорядоченная система взаимообразных и взаимовлияю-щих отношений между людьми. Человек и его поведение рассматриваются как продукт социальных условий и тем самым производственных отношений, причём его индивидуальное развитие зависит от социальных условий, формирующих личность, и конкретных условий жизни, что открывает возможность действовать так или иначе. Таким образом, детерминизм признаёт закономерности человеческой воли и человеческого поведения [10, с. 64].
Как отмечал Б.С. Волков, «поведение человека, его воля, мотивы и цели причинно обусловлены, детерминированы. От природы люди не наделяются ни высокими нравственными побуждениями, ни низменными мотивами. Представление о добре и зле, добродетелях и заслугах не являются непосредственно производными от врождённых моральных чувств. Они определяются общественно-исторической средой, материальными условиями жизни человека, его общественным бытием» [4, с. 121].
Соответственно всё в мире причинно обусловлено, поэтому и совершение человеческого поступка порождается определёнными причинами. Однако это не исключает, а предполагает ответственность человека за то, что он совершает.
Прав М.И. Ковалёв, утверждавший, что «детерминированность человеческой деятельности означает только ограниченность произвольного выбора способов действия для достижения каких-либо целей. Даже если у человека нет никакого выбора, он может по своему желанию тем или иным образом замедлить или ускорить достижение какой-либо цели или наступление какого-либо события». Соответственно, по мнению профессора, если человек сознательно выбирает опасный для общества способ поведения, имея возможность избежать его, то «государство как представитель общества может применить к нему принуждение, чтобы он и, глядя на него, другие в будущем действовали более осмотрительно» [8, с. 17–18].
С позиции философского учения о детерминизме рассматривал проблему уголовной ответственности и А.А. Герцен-зон, который доказывал необходимость и обоснованность ответственности человека за свои поступки перед обществом, в свою очередь обязанным и имеющим право учинить с него спрос за содеянное, на основе механизма человеческого поведения и мотивированности его поступков. С его точки зрения, ответственность предполагает «возможность вменения совершённого деяния с целью применения наказания к лицу, обладающему нормальной волей, сознательно действующему и принимающему связь явлений внешнего мира» [6, с. 328].
Таким образом, одним из существенных элементов механизма детерминации человеческого поведения является свобода как способность субъекта активно влиять на окружающую социальную действительность, изменять ход событий [14, с. 30].
В философии свобода определяется как возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества. Воля, в свою очередь, есть способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели [15, с. 626, 86].
Отсюда свободу воли можно определить как способность человека выбирать определённый вариант поведения из многочисленных возможных вариантов и отвечать за сделанный выбор, давая при этом оценку своему поведению.
Русский учёный В.Д. Спасович писал, что субъектом преступления может быть только лицо нравственно свободное, если нет такой свободы, то нельзя никого винить за совершённое деяние, и не может иметь место ни ответственность за совершённое деяние, ни наказание преступника [18, с. 259].
Интересными в связи с этим представляются следующие уровни свободы воли, выделенные Р.И. Михеевым:
– гносеологический (теоретикопознавательный) – способность принимать решение со знанием дела;
– нравственно-психологический – способность субъекта подчинять свои поступки своим взглядам, принципам, убеждениям, установкам;
– юридический – способность субъекта при совершении правонарушения сознавать общественную опасность своего деяния и руководить им.
Именно такая трактовка свободы воли, по его мнению, позволяет обосновать все виды ответственности [13, с. 21, 24].
С этим положением нельзя не согласиться, ведь свобода воли в первую очередь заключается в познании законов природы и возможности пользоваться ими. Это, в свою очередь, ведёт к способности принимать решения со знанием дела.
По мнению Р.И. Михеева, способность действовать «со знанием дела» означает:
– социально-психологическую способность личности действовать осмысленно, то есть сознавать (предвидеть) своё общественно значимое поведение и его результаты, определять «модель» своего поведения и реализовывать его исходя из понимания того, какую социальную пользу или, напротив, вред это поведение принесёт государству, обществу, другим гражданам;
– согласовывать свою индивидуальную свободную волю с требованиями общественной необходимости, свободой всего общества, ибо свобода отдельной личности неотделима от свободы своего общества;
– подчинять индивидуальную свободную волю воле всего общества, его социальным требованиям, правовым предписаниям, нравственно-этическим нормам и правилам человеческого существования [12, с. 17].
В выделенных Р.И. Михеевым уровнях свободы воли, а также сущности способности действовать «со знанием дела» заложено осмысленное, осознанное поведение, которое и является базисом виновного совершения общественно опасного деяния.
Исходя из трактовки свободы воли, не могут быть признаны виновными и привлечены к уголовной ответственности животные, силы природы, вещи.
Однако в судебной хронике Средних веков отмечены случаи признания виновными свиней, загрызших детей; саранчи, уничтожившей посевы; быков, поранивших человека и т.д.
Так, в 1479 г. в г. Лозанне к церковному суду были привлечены жуки, черви и личинки, которые повредили огороды, луга и хлеба. В связи с тем, что обвиняемые не явились на суд, они были заочно приговорены к пожизненному изгнанию из страны. В 1474 г. на Угольной горе был живьём сожжён петух за то, что, якобы, снёс яйцо [20, с. 250–251].
В России в 1553 г. за «государственное преступление» был осуждён церковный колокол, в который ударили при восстании народа в г. Угличе. «Мятежный» колокол был наказан кнутом и сослан в Сибирь [18, с. 252–253]. Данное обстоя- тельство сохранялось до позднейшего времени. Например, во Франции до половины XVIII в. животные в случаях такого рода подвергались даже сожжению; Земское прусское право 1795 г. определяло, что таких животных нужно убивать или изгонять из страны [21, с. 143].
Таким образом, в эпоху феодализма к ответственности привлекались не только за виновное совершение преступления, но и за другие опасные и вредные действия. В настоящее время по российскому уголовному законодательству виновными в совершении преступления могут быть признаны только физические лица, в том числе и за вред, причинённый животными, при условии, если человек действовал с прямым или косвенным умыслом, а равно легкомысленно или небрежно.
Иными словами, объективное выражение воля находит только в целенаправленных осознанных действиях (бездействии), то есть поступок человека является единственной формой, в которой воля может найти своё объективное выражение [4, с. 10–11].
Основываясь на вышесказанном, многие российские учёные отвергают возможность признания юридических лиц (коллективных субъектов) виновными в совершении преступления и привлечения их к уголовной ответственности. Вместе с тем проблема остаётся дискуссионной. Не вдаваясь в подробный анализ указанного вопроса, отметим лишь, что, несмотря на существующие проблемы определения вины применительно к коллективным образованиям, последние признаются виновными в совершении административных, налоговых правонарушений [1; 2; 3]. Человек же может быть свободен лишь тогда, когда он способен действовать, согласно своим взглядам, а не по чьей-либо указке. Вот как трактовал свободу В. Даль: «Своя воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле» [7, с. 151]. Соответственно для того, чтобы иметь возможность действовать свободно, необходима как внешняя, так и внутренняя свобода, то есть никто и ничто не должно мешать человеку при выборе своего поведения.
Поэтому лицо не может быть признано виновным, если оно действовало под влиянием непреодолимой силы (например, стихийного бедствия) или чрезвычайных обстоятельств, созданных людьми (например, аварии, крушения), либо физического или психического принуждения вопреки своей воле. Такие деяния признаются совершенными невиновно. Другими словами, уголовная ответственность допустима лишь в случаях, когда лицо в реальной действительности имело объективную возможность свободного выбора определённого варианта поведения (должны отсутствовать внешнее давление или какие-либо препятствия).
Внутренняя несвобода (болезненное состояние психики) также освобождает лицо от ответственности, так как человек в определённых состояниях неспособен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими. Ещё Гегель писал о том, что общим условием вменения лицу совершённого поступка является возможность сознания человеком всех своих поступков. Эта возможность есть у каждого мыслящего суще- ства, могущего действовать со знанием и волей. Возможность понимать характер своих поступков может полностью или частично отсутствовать у детей, идиотов, сумасшедших и т.д. Эти состояния (идиотизм, сумасшествие, детский возраст) уничтожают характер мышления и свободы воли и позволяют не рассматривать совершившего поступок с той стороны, которая оставляет за ним честь быть мыслящим и волящим [5, с. 165]. Аналогичную точку зрения высказывал и Шеллинг, по мнению которого свобода есть способность быть разумным. Мы не делаем ответственным младенца и возлагаем ответственность на взрослого, но лишь в той мере, в какой мы приписываем ему разум (способность мышления) [16, с. 57–70].
Исходя из этого, можно заключить, что невменяемость лица исключает его виновность в совершении общественно опасного деяния.
При этом согласимся с А.А. Пионтковским в том, что «состояние невменяемости не устраняет уголовную ответственность вообще, а устраняет лишь уголовную ответственность в тесном смысле слова. Оно является основанием для применения специальных мер защиты» [17, с. 185].
Отсюда следует, что лицо может только тогда отвечать за свои поступки, когда оно способно сознательно регулировать свои действия, то есть способно действовать виновно. Это положение, показывает в том числе неразрывную связь общефилософской категории свободы воли с вменяемостью. Для уголовной ответственности важен факт вменяемости субъекта, а именно его способность к сознательному волевому акту. Как отмечал В.Н. Кудрявцев, «поведение, не поддающееся контролю со стороны волевых и интеллектуальных механизмов личности, не может регулироваться правом и, в частности, не может влечь юридической ответственности – она была бы бессмысленной» [11, с. 10].
Вследствие отсутствия свободы воли нельзя признать лицо виновным за рефлекторные действия либо действия, совершённые в бреду, поскольку они также не контролируются сознанием и волей лица.
Таким образом, если рассматривать свободу воли применительно к субъективной стороне состава преступления, то можно сказать, что она проявляется в способности лица юридически признаваться виновным в совершении преступлений.
В разделе учения о намерении и благе «Философии права» Гегель указывал, что « право намерения заключается в том, что всеобщее качество поступка есть не только в себе, но было известно его совершающему, следовательно, уже содержалось в его субъективной воле; и, наоборот, право объективности поступка, как это можно назвать, состоит в утверждении, что субъект в качестве мыслящего знал и хотел это » [5, с. 165]. Отсюда общим условием вменения лицу совершённого поступка, по Гегелю, является возможность сознания человеком всех своих поступков.
Таким образом, отсутствие свободы воли при наличии внешнего давления и сохранении внутренней свободы влечет за собой отсутствие вины, а следовательно, и уголовной ответственности. Отсутствие свободы воли при внутренней несвободе влечет за собой отсутствие вменяемости и, как следствие этого, отсутствие вины и уголовной ответственности. Во второй ситуации сущность «свободы воли» заключена в триаде «вменяемость – вина – ответственность». Это еще раз подтверждает мысль о том, что привлечь к уголовной ответственности можно только лицо, которое способно быть виновным. Данное положение характеризует суть принципа субъективного вменения, которым руководствуется наше государство при построении юридической стратегии и тактики противодействия преступности.
Список литературы Свобода воли и её влияние на субъективную сторону состава преступления
- Антонова Е. Ю. Административная ответственность юридических лиц -«испытательный полигон» для корпоративной (коллективной) уголовной ответственности/Е. Ю. Антонова//Законодательство. 2011. № 5.
- Антонова Е. Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: монография/Е. Ю. Антонова; науч. ред. А. И. Коробеев. СПб., 2011.
- Антонова Е. Ю. Проблема вины коллективного субъекта преступления/Е. Ю. Антонова//Право и государство: теория и практика. 2011. № 5 (77).
- Волков Б. С. Проблема воли и уголовная ответственность/Б. С. Волков. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1965.
- Гегель Г. В. Ф. Философия права/Г. В. Ф. Гегель; ред. и сост. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц; автор вступ. ст. и прим. В. С. Нерсесянц; пер. с нем. М.: Мысль, 1990.
- Герцензон А. А. Уголовное право. Часть Общая: учеб. пособие/А. А. Герцензон. М., 1948.
- Даль В. Толковый словарь/В. Даль. М., 1955. Т.4.
- Ковалёв М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве/М. И. Ковалёв. Свердловск, 1987.
- Криминология: словарь/под ред. В. П. Сальникова. СПб., 1999.
- Криминология: словарь-справочник/сост. Х.-Ю. Кернер; под ред. А. И. Долговой; пер. с нем. М., 1998.
- Кудрявцев В. Н. Право и поведение/В. Н. Кудрявцев. М.: Юрид. лит., 1978.
- Михеев Р. И. Невменяемый. Социально-правовой очерк/Р. И. Михеев. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1992.
- Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве/Р. И. Михеев. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983.
- Номоконов В. А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность/В. А. Номоконов. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1989.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка/С. И. Ожегов. М., 1984.
- Ойзерман Т. И. Философия Гегеля как учение о первичности свободы/Т. И. Ойзерман//Вопросы философии. 1993. № 11.
- Пионтковский А. А. Советское уголовное право. Общая часть/А. А. Пионтковский. М., 1928. Т. 1.
- Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Общая часть/А. А. Пионтковский. М., 1961.
- Российская криминологическая энциклопедия/под ред. А. И. Долгова. М., 2000.
- Современное зарубежное уголовное право. М., 1958. Т. 2.
- Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая: в 2 т./Н. С. Таганцев. М.: Наука, 1994. Т. 1.