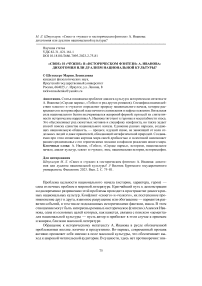«Свое» и «чужое» в «историческом фэнтези» А. Иванова: дихотомия или дуализм национальной культуры?
Автор: Штуккерт Мария Леонидовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме диалога культур в историческом метатексте А. Иванова («Сердце пармы», «Тобол» и ряд других романов). Специфика взаимодействия «своего» и «чужого» определяет природу национального начала, которое раскрывается в историософской идее вечного становления и пафосе освоения. Витальная сила национального бытия подчеркивается жанровой формой: при всей их синтетичности исторические нарративы А. Иванова тяготеют к героике и масштабности эпоса. Это обусловливает ряд сюжетных мотивов и специфику конфликта, но также задает способ поиска единства национального начала. Единение разных народов, создающих национальную общность, - процесс, идущий извне, не зависящий от воли отдельных людей и даже правителей, обладающий метафизической природой. Создаваемая при этом мозаичная картина мира своей дробностью и эклектикой напоминает раннее средневековье с его героическими эпосами и пафосом рождения нового мира
А. иванов, «тобол», «сердце пармы», историзм, национальное начало, диалог культур, «свое» и «чужое», эпос, национальная история, историософия
Короткий адрес: https://sciup.org/148326732
IDR: 148326732 | УДК: 82-31, | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-75-81
Текст научной статьи «Свое» и «чужое» в «историческом фэнтези» А. Иванова: дихотомия или дуализм национальной культуры?
Проблема цельности национального начала (истории, характера, героя) — одна из вечных проблем в мировой литературе. Кратчайший путь к демонстрации и одновременно разрешению этой проблемы проходит в пространстве диалога разных национальных культур. Конфликт «своего» и «чужого», их постепенное проникновение друг в друга, взаимное разрушение или обогащение — вариантов развития событий, в том числе подсказанных историческими фактами, масса. В этом отношении могут быть интересны романы («историческое фэнтези») Алексея Иванова, одна из основных целей которых, как кажется, связана с поиском «цемента» для национальной культуры — пусть автор и прибегает в этом случае к приемам и жанрам, близким массовой литературе.
Обращение к историческому метатексту А. Иванова в русле обозначенной проблематики вполне логично и продуктивно. Во-первых, современный прозаик активно проявляет себя именно в поле массовой культуры, что обеспечивает выход к широкой читательской аудитории. В сущности, здесь нет противоречия: эпи- ческий размах исторических полотен А. Иванова (особенно его стремящийся к монументальности «Тобол») требует внимания народных масс и в поле этого внимания достаточно органичен. Автор ищет новые способы диалога с аудиторией, включая экранизации («Сердце пармы», «Тобол»), сериалы («Пищеблок»), подкасты («Тени тевтонов» вышли сначала в аудиоформате, затем опубликованы как классическая книга); активно продвигает себя в интернете, дает интервью и т. д. Это может сделать его концепцию если не влиятельной, то хотя бы достаточно известной — не только узкому кругу литературоведов.
Во-вторых, осмысление, исследование национального начала через историю — пусть и классический, но по-прежнему вполне актуальный подход в искусстве, и не только отечественном. Активно работает в этом направлении и массовая культура, собирая обильный урожай клише.
В-третьих, в противовес индивидуально-личностному восприятию истории, популярному в современной русской литературе, А. Иванов дает эпическое видение национальной истории. Его интересует не отдельный человек, его семья и род, а целые племена, народы; действие развивается масштабно и динамично, пространство распахивается широко. Это уже не отдельные воспоминания о предках, чья судьба так или иначе определила судьбу и характер потомка (такие воспоминания могут внезапно вторгаться в неисторическое повествование — например, у М. Кучерской, О. Васякиной, М. Степновой и других современных авторов). Собственно, исторический метатекст А. Иванова подчеркнуто эпический, героический, это своего рода «Одиссея», но сконцентрированная на поэтике преодоления, освоения, сопровожденная довольно внятной дидактикой массового текста. Такой подход (эпическое дистанцирование от описываемых событий, мифопоэтика в сочетании с правдой исторического факта, поиск путей национального самоопределения в рамках «магического историзма») актуален в современных национальных литературах народов России [10; 11].
В-четвертых, несмотря на внешнюю «имперскость», которая предчувствуется читателем в русле все той же темы освоения, на время создания «Золота бунта», «Сердца пармы», «Тобола» автор занимал подчеркнуто региональную, не «столичную» позицию, о чем свидетельствуют и его интервью [12], и сама образность, хронотоп его романов. В таком случае сохраняется возможность смены точек зрения — при одновременной полярности, заостренности конфликта.
Очевидно, исторический нарратив, задающий некую национальную идею, — не случайность в художественном мире автора: так, даже отходя от изображения собственно российской истории в «Тенях тевтонов», А. Иванов сохраняет пафос освоения (но теперь уже европейского культурного пространства, т. к. одними из последних участников его исторической мистерии являются наши соотечественники) [5].
Эпический размах действия требует масштабности изображенных событий, и потому нередко основной темой в историческом нарративе А. Иванова становится война (в широком смысле — от освоения Урала и Сибири до Второй мировой войны); даже там, где, казалось бы, не должно было быть места столь глобальным столкновениям, эта тема заявляет о себе. Так, например, сквозь ностальгическую пионерскую историю [1] в «Пищеблоке» проступает Гражданская война, и традиционный для фэнтези конфликт добра и зла, развивающийся в том числе и в русле противостояния красных и белых, становится не столь абстрактным, приобретает отчетливо национальные черты [3]. Похожее развитие конфликта наблюдается и в романах «Псоглавцы» [9], «Комьюнити» [2].
В таких условиях вполне ожидаема агрессия как реакция на «чужое». Особенно это заметно там, где А. Иванов описывает точки зрения разных народов друг на друга, и главная роль здесь, как кажется, принадлежит русским. Именно они нередко выступают в качестве давящей недоброй силы. Неостановимая, необоримая стихия, опасная, неведомая, непредсказуемая — именно так видят русских остяки в «Тоболе»: «Остяки не понимали, как можно воровать или отнимать, ведь у каждой вещи <…> есть свой дух, и он отомстит за хозяина. А вот русские легко брали чужое и потому остякам казались колдунами. Откуда русские столько всего знают и умеют? Остяки смотрели на русских с суеверной опаской и отчаяньем. Вещей, конечно, им было жалко, но гнев отступал перед страхом» [7]; «Бабы, детишки и старики прятались здесь от русских, словно от грозы»; «Русские — это буревал: нельзя удержать падающее в урагане дерево, можно только увернуться»; «Русские всегда приходят без приглашения» [7]. Можно предположить, что в данном случае несобственно-прямая речь — вкрапленный в авторскую речь «остяк-ский текст» — скорее иллюзия диалога культур, некое предположение о том, как могли бы видеть остяки русских, предположение, возможно, основанное на знании истории, но все-таки воспроизводящее и ряд клише, определяющих национальное самосознание русских (стихийность, непредсказуемость, неожиданность проявлений). Там, где, как кажется, о русских говорят остяки (с подчеркнутыми негативными коннотациями), видится и взгляд русских на самих себя: «Власть русских была не в колдовстве. Все русские <…> имели в себе безоговорочное убеждение, что тут, в Сибири, они самые главные. Они приходили и брали, что пожелают, и даже удивлялись, когда им не хотели давать. Они не сомневались в своём праве. И про меру они тоже не думали — забирали больше, чем надо, могли забрать вообще всё, и не испытывали вины. Русские были не народом, а половодьем. Нельзя сказать, что они угрожали или давили силой, хотя порой случалось всякое. Но обезоруживала их уверенность в себе» [7]. Во взгляде на русских остячки Айкони «просвечивает» мифологически устойчивое описание русских, приписываемое Фридриху Великому: «Земля очень, очень большая <…>. Но повсюду, повсюду — русские <…>. Их убивают, они погибают от голода и холода, но все равно идут, идут, идут <…>. Убить человека, когда можно только ранить, — зло. И потому убить русских — необходимость. Ранить их недостаточно, они не чуют ран. Они или живые, или мёртвые» [6].
О дикости и непредсказуемости, опасности русских в «Тоболе» говорят и китайцы, и джунгары: «Все государства, кроме Срединной империи, — варварские державы. И Россия тоже страна варварская» [7]; «Воистину, эти русские — дети докшитов, свирепых и коварных степных богов» [6].
Примерно то же видим в словах шведа Табберта, национальную стихийность русских, он, как и китайцы, объясняет их варварской природой: «Русские — галлы. Великий народ, но варварский. И галлам никогда не стать римлянами, даже если они разрушат Рим» [7]; «В конце концов они — русские, они — гунны! Нельзя распространять на них кодекс чести. Но что же они за болваны-то?» [6]. В размышлениях шведского офицера о национальных особенностях русского характера слышен, скорее, голос самого автора; как и в случае со словами Айкони, это скорее авторефлексия, оформленная как объективная оценка «со стороны»: «Таб-берт уже заметил, что русские не любят каяться, но любят прощать кающихся» [6]. Швед замечает, что русские относятся ревниво к вопросу превосходства и потому внешне столь парадоксальны, как и все их государственное устройство.
Ошибкой было бы утверждение, что исторические романы А. Иванова — бесконечная авторефлексия национального начала, объясняющего себя себе же. Многое из того, что сказано про русских, характерно и для других народов, с которыми они сталкиваются: страх Другого — мощное объединяющее начало. В «Тоболе» джунгары боятся русских — русские боятся джунгар; остяки в ужасе от «народа-половодья», но и этот народ, как владыка Филофей, замирает в страхе перед глубиной остяцких болот и мрачными тайнами местных богов. В конце концов владыка Филофей именно в сердце сибирских болот чувствует и бездну, и близость христианского бога; в романе и Петербург описан как «ингерманландское болото». Иными словами, авторефлексия невозможна без образа Другого, встреча с которым — необходимое условие самопознания. Поэтому, очевидно, в «Сердце пармы» и «Тоболе» присутствует не просто идея сравнения, но мотив отражения «своего» в «чужом» — и наоборот.
Единство двух сторон, их парадоксальная близость в смертельном споре культур создается и благодаря гуманистической идее общечеловеческой природы разных чувств, включая страх, любовь, ненависть, переживание столкновения с прекрасным. Так, в «Сердце пармы» Мичкин наблюдает появление русских судов. Это грозит гибелью его родным Беличьим Гнездам, здесь конфликт понятен – борьба с захватчиками. Однако в этот момент Мичкин чувствует не только страх и ненависть, он поражен красотой открывшейся ему картины: «…Мичкин увидел сразу все русское войско. Эта картина была настолько яркой, красочной, торжественной, что он не выдержал и закричал… Плоты… густо заполняло войско, которое в ясном рассветном сиянии сверкало бронями, шлемами, мечами, копьями, кровенело ало-серебряными щитами…» [4, с. 217‒218]. В этом же эпизоде появится образ червленых щитов — читатель увидит их глазами того же персонажа, но в данном случае вновь налицо многослойность точки зрения: Мичкину вряд ли принадлежит упоминание именно червленых щитов, скорее это устойчивый образ национальной русской литературы, культурный код, восходящий к «Слову о полку Игореве». Наступающие русские и страшны, и жестоки, и одновременно прекрасны, ими из-за плеча Мичкина любуется автор – и читатель. Но то же самое можно сказать и о пермяках, вогулах: и бессмертный Асыка, и ламия Тиче одновременно пугающи и по-своему прекрасны. Исследователи отмечают, что в отличие от русских пермяки, вогулы и их земля изображены мифопоэтически, что должно бы подчеркнуть конфликт между ними [8]. Однако русские в «Сердце пармы» и в «Тоболе» — это не только Москва или Петербург. Это и «местные русские» — князь Михаил и Матвей, семья Ремезовых, и их жизнь, их земля наполнены не меньшими тайнами и чудесами. В сущности, эти «срединные русские» показывают начавшийся процесс объединения, в котором, по А. Иванову, возможно, и состоит национальная идея: «Русский народ по-настоящему еще не родился, хотя мы и называем всех московитов «роччиз» — «русские». Русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы — и нас, и зырян, и печору, и вотяков, и черемисов, и новгородцев… мы — еще пермяки, но дети наши будут называть себя русскими» [4, с. 424].
В непростой истории освоения Урала и Сибири именно земля становится еще одним объединяющим началом. Те, кто воевал друг с другом не на жизнь, а на смерть, равны между собой — перед жестокой и требовательной любовью неприветливой земли: «Когда же эта земля и нашей станет? Храмы и города на ней строим, крестим ее, живем здесь уже сколько лет — когда же она и нашей станет? — Когда на три сажени вглубь кровью своей ее напоим» [4, с. 111]. Отдавая себя этой земле, люди врастают в нее и друг в друга, создавая противоречивое единство. Не случайно в «Тоболе» и старик Ремезов, и чужак Табберт сходятся в своем интересе к картам, чертежам Сибирской земли, и в конце романа швед, вернувшись на родину, не ощущает себя там до конца своим.
Таким образом, отвечая на вопрос о единстве национального начала, А. Иванов ищет его скорее в преодолении четкой дихотомии «своего» и «чужого», фиксируя дуальность самого феномена русской национальной культуры. История представлена как процесс стихийный, но также исторически и метафизически детерминированный, одновременно несущий в себе и некое механическое начало: объединение «своего» и «чужого» внутренне обусловлено, но и происходит как бы под воздействием внешних сил, которым персонажи нередко противятся (что усиливает конфликт). Этот процесс выше имперских амбиций Москвы или Петербурга, потому что не ими направляется и инициируется; его природа — вне государственной власти. В объединение включены все народы равно — от русских до китайцев и джунгар. Возможно, подобная точка зрения отчасти продиктована жанровой природой романов А. Иванова. Это эпос, генетически восходящий к героике, образующей национальные литературы: «Накал страстей и эпическая мощь отдельных эпизодов напоминают уже не исторический, а скорее рыцарский роман или скандинавскую сагу»1 [8, с. 121]. Картина мира, созданная в рассматриваемых романах, отчасти напоминает позднюю античность и раннее средневековье своей мозаичностью, дробностью, эклектичностью и одновременно предчувствием мощи нового рождающегося мира, мотивом судьбы. Мозаичность (мозаика как искусство), империя напоминают и о Византии. Иными словами, природа жанра и основа образности в историческом нарративе А. Иванова создают ощущение времени рождения, создания национального начала и бесконечно продляют это время в будущее. Отсюда слитость агрессии и красоты, тема войны и героика, пафос освоения, фатализм, фантастика. Но такой подход непсихологичен, т. к. предполагает именно эпическую картину мира. Личностное переживание диалога культур — как единение не внешнее, а напряженный и одновременно естественный внутренний процесс — прерогатива иных жанров, литературы именно психологически ориентированной. Исторический эпос А. Иванова, возможно, отражает массовое желание единства и обновления, чувство полнокровной радости и полноты национального бытия, которое цивилизационно не подходит к своему закату, но которое как будто еще даже не родилось.
Список литературы «Свое» и «чужое» в «историческом фэнтези» А. Иванова: дихотомия или дуализм национальной культуры?
- Иванов А. Алексей Иванов о новом романе «Пищеблок». URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ckE_KYqHAmw&feature=emb_title (дата обращения: 05.04.2023). Текст: электронный.
- Иванов А. Комьюнити. Москва: Изд-во АСТ, 2019. 384 с. Текст: непосредственный.
- Иванов А. Пищеблок. Москва: Изд-во АСТ, 2018. 416 с. Текст: непосредственный.
- Иванов А. Сердце пармы. Москва: Изд-во АСТ, 2016. 507 с. Текст: непосредственный.
- Иванов А. Тени тевтонов. Москва: РИПОЛ классик, 2021. 384 с. Текст: непосредственный.
- Иванов А. Тобол. Мало избранных: роман-пеплум. URL: https://www.litres.ru/ aleksey-ivanov/tobol-malo-izbrannyh-29407846 (дата обращения: 05.04.2023). Текст: электронный.
- Иванов А. Тобол. Много званых: роман-пеплум. URL: https://www.litres.ru/aleksey-ivanov/tobol-mnogo-zvanyh (дата обращения: 05.04.2023). Текст: электронный.
- Лобин А. М. Эволюция историзма в романе А. Иванова «Сердце пармы» // Вестник ВятГУ. 2012. № 2. С. 119‒125. Текст: непосредственный.
- Маврин А. (Алексей Иванов) Псоглавцы. Санкт-Петербург; Москва: Азбука; Азбука-Аттикус, 2011. 352 с. Текст: непосредственный.
- Сивцева-Максимова П. В. Поэмы А. И. Софронова-Алампа 1920-х гг.: эпическая традиция в воплощении исторической реальности // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2020. № 3. С. 20‒26. Текст: непосредственный.
- Сырысева Д. Ю. Специфика изображения исторических событий в романе Салавата Юзеева «Не перебивай мертвых» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2019. № 2. С. 84‒88. Текст: непосредственный.
- Щербино К. Алексей Иванов: «Время покажет, кто Гомер…» // текст интервью с автором на портале Полит. Ру. URL: https://polit.ru/article/2005/12/22/ivanov (дата обращения: 05.04.2023). Текст: электронный.