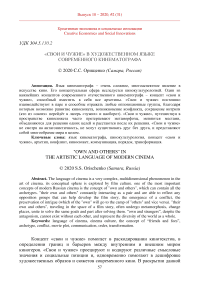«Свои и чужие» в художественном языке современного кинематографа
Автор: Орищенко C.С.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (31) т.10, 2020 года.
Бесплатный доступ
Язык кинематографа - очень сложное, многоаспектное явление в искусстве кино. Его концептуальная сфера исследуется кинокультурологией. Один из важнейших концептов современного отечественного кинематографа - концепт «свои и чужие», способный вместить в себя все архетипы. «Свои и чужие» постоянно взаимодействуют в паре и способны отражать любые оппозиционные группы, благодаря которым возможно развитие киносюжета, возникновение конфликта, сохранение интриги (кто из «своих» перейдёт в лагерь «чужих» и наоборот). «Свои и чужие», путешествуя в пространстве киносюжета часто претерпевают метаморфозы, меняются местами, объединяются для решения одних целей и расстаются после их решения. «Свои и чужие» не смотря на антагонистичность, не могут существовать друг без друга, и представляют собой многообразие мира в целом.
Язык кинематографа, кинокультурология, концепт "свои и чужие", архетип, конфликт, киносюжет, коммуникация, порядок, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/142224071
IDR: 142224071 | УДК: 304.5.130.2
Текст научной статьи «Свои и чужие» в художественном языке современного кинематографа
Концепт «свои и чужие» помогает в раскодировании кинотекстов, в определении границ и барьеров между внутренним и внешним миром киногероя. «Свои и чужие» проецируют и кодируют различные смысловые значения и социальные позиции и, одновременно помогают в дешифровке художественных образов и сюжетов современного кино. В раскрытии данной 57
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations темы полезными оказались общетеоретические работы по семиотике кино и экранной культуре [1; 3-5; 15], а также исследования по визуальным и арт-коммуникативных трансформациям [2; 6-8; 14].
Кинопространство отечественного современного кино постоянно разрастается. В этой связи в задачу культурологии входит описание фильмов с точки зрения культурологических элементов их составляющих, чтобы в культурной конфигурации кино были зафиксированы сложившиеся неповторимые комбинации тех или иных режиссёрских идиостилей.
В предметном поле современной культурологии концепт «свои и чужие» проявляется постоянно. Нами он исследован в отдельных статьях [9-15]. Проблема, которую ставит перед нами культурология, объединяя два корня, заключается в определении подходов в раскодировании современных отечественных кинотекстов и особенностей художественной коммуникации на стыке гуманитарных знаний, благодаря которым возникает понятие кинокультурология. Возникновению направления в культурологии, слиянию слов в единый термин активно способствовали такие наукоёмкие наименования как лингвокультурология, культурфилософия, киноантропология. Предметное поле современной культурологии требует создать «банк данных» частотно употребляемых тропов и фигур, которые участвуют в создании современных кинотекстов и концепта «свои и чужие». Описание авторских идиостилей, характеризующих разные типы культуры, разные «картины мира», помогает сделать акцент на выявлении их системности, с одной стороны, и «несхожести», «инаковости», с другой стороны. Предлагаем проследить за вариациями и трансформациями концепта «своих и чужих» в кинокультурологии. Вслед за Жилем Делёзом мы считаем кинорежиссёров «мыслителями». Антитеза «свои и чужие» активно разрабатывается в современной культурологии. Из теоретических изысканий для нас интересен опыт Михаила Ямпольского, изложенный им в работе «Муратова. Опыт киноантропологии» [16].
Концепт «свои и чужие» является одним из кодовых ключей современного отечественного кинематографа, благодаря которому снимается проблема понимания кинотекста. Для нас важно, что книга Михаила Ямпольского исследует антонимическую пару «свои и чужие», раскрывая подтекст киноповествования через образы человека «отсутствующего и присутствующего», «подлинного и мнимого», «развивающегося и без свойств движения» «живого и мёртвого» [16]. Таким образом, «Свои и чужие» – неотъемлемая часть двоемирия. «Свои и чужие» – постоянная его составляющая. Их взаимообусловленность, взаимодействие, взаимопроникновение и способность меняться местами друг с другом, становиться «другими» постоянно исследуется в кинематографе. Но гораздо важнее для нас становится наблюдение М. Ямпольского о точке зрения, 58
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations которая может принадлежать разным персонажам, в разное время, обусловленное разными ситуациями [16].
Ключевыми понятиями в интерпретации концепта «свои и чужие» семантических смыслов языковой культуры являются слово, знак, кинотекст. Очень часто в основе взаимоотношений антагонистов лежит танатологический аспект. «Свои и чужие» часто не совпадают во мнении о «других» , являющихся свидетелями той или иной жизненной ситуации, дающих оценку тем или иным действиям, тому или иному персонажу. Такое «метание» , неустойчивость мнения говорят лишь о том, что часто восприятие искажено зеркальным отражением, двойничеством, о котором подробно рассказывает в своих работах философы и филологи (Р. Барт, Ж. Делез, С. Агранович). Живые и мёртвые часто взаимодействуют в пределах кинематографического времени. И не всегда жизненное начало побеждает противоположное. Но всё-таки человек стоит в центре кинотекста. «Не основано ли превосходство жизненного на том, что оно в своем устроении выходит за границы образа?» (Х. Плеснер). Скорее всего, нет, достаточно посмотреть, как это показано в киноленте Василия Сигарёва «Жить», когда четверо, погибших, вмешиваются в будни своих близких, на правах жизни вечной и дарят оставшимся близким успокоение, любовь, заботу и ласку, как ни абсурдно это звучит. Понять в этой ситуации, кто из них жив, кто мёртв, кто нуждается в помощи, кто нет, где границы, разделяющие миры, практически невозможно. В данном фильме за границы образа выходят как раз невинно убиенные, кто словом, кто делом, кто равнодушием. Абсурд сегодня визитная карточка кинематографа. Постмодернистские тенденции в кинематографе поддерживают ключевые коды этого направления в искусстве.
Современный русский киноязык рассматривается нами как культурный код нации, который мы исследуем через любые иные языки культуры: от вербальных до кинематографических. Например, киноязык современного отечественного художественного фильма помогает выполнить важную социологическую функцию: идентифицировать общество реципиентов как «своих» и «чужих» , то есть выделить несколько функций ритуала: 1) снятие агрессии, 2) обозначение круга «своих», 3) отторжение «чужих» (определение К. Лоренца).
«Снятие агрессии» в современном кино практически не работает из-за отсутствия в современных сценариях оптимистического взгляда на мир. Эстетика постмодернизма лишает зрителей надежды на светлое будущее. Отсутствие детского кино, экранизации русских народных сказок, кинокартин, в которых исследуется опыт благополучных семейных отношений, только усугубляют проблему. Хотя «светлый путь» кинематографа остался в социалистическом кинопространстве ХХ века, оптимистическое начало всё-таки возрождается сегодня. Это стало возможным через противопоставление, 59
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations но не сугубо антагонистического толка, а его оксюморонной разновидности, когда соединение несоединимого не исключает присутствия «Другого», а усложняет его значимость за счёт новых смыслов. «Свои и чужие» свободно вмещают в себя элементы тропа оксюморон, поскольку проникают друг в друга, замещая друг друга, становясь продолжением один другого, сливаясь в единое целое по принципу контаминации и конвергенции.
Восприятие киноверсий постмодернистской эстетики достигло такого градуса абсурда («Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Груз 200» Алексея Балабанова, «Похороните меня за плинтусом» Сергея Снежкина, «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой, «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Жить», «Майор», «Дурак» Юрия Быкова, «Волчок» и «Жить» Василия Сигарёва), что дальше идёт отторжение негативного восприятия мира в художественном пространстве. Неприятие «черной жизни» подчёркивает, что погружение во тьму, порождает желание обрести свет, найти путь к источнику света, отсюда интерес к кино с сотериологическим подтекстом.
Зрители не хотят находиться в состоянии постоянного шока, даже если этот шок представлен через художественные образы. И вот «чужие» становятся «своими», меняются с ними местами и наоборот. Наступает переломный момент, когда возникает потребность заговорить иным кинематографическим языком, чтобы обрести баланс, равновесие между «светом» и «тьмой» , которое может поддержать реципиента и его жизненные силы, определить отношение человека к Бытию. В момент, когда происходит перенасыщение «злом» , возникает мечта о зарождении иного начала, тогда и проясняется первая функция ритуала «снятие агрессии» . Детскость, наивность, чистота, жертвенность вдруг становятся востребованными в прагматическом мире мейнстримов (картин, предназначенных для массовой аудитории, которую необходимо привлечь в кинотеатры любой ценой, чтобы окупить баснословные затраты на их производство), как подводных течениях, размывающих плоть земли и изгоняющих из неё род человеческий как несостоявшийся, «чужой» , не подтвердивший надежды на совершенство, на творческое созидающее начало, на право пребывания на земле.
Российское кино первых десятилетий ХХI века интересно тем, что является пограничным, идентифицирующим «своих» и «чужих» как внутри кинотекста, так и среди воспринимающей стороны. Категория «свои и чужие» существовала во все времена. История, философия, социология, психология, теология постоянно осмысливают эту тему. Разные эпохи, разные социальные условия диктуют свои поправки в понимании антагонистической пары и моделируют современный концепт. Кино ярко отражает «поправки» и изменения в восприятии двойников, переводя знания в область бифуркации.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Подобно кубику Рубика, каждый новый поворот грани, новый кинокадр, новый взгляд, новое мнение, отражающее современное отношение к концепту «свои и чужие», помогает не только фиксировать изменения отношения к понятию, но и обнаруживает новые искусствоведческие коды, востребованные современностью. Если позаимствовать термин из лингвокультурологии «внутренняя форма слова» и соотнести его с изучаемым нами объектом – современным отечественным кино (два десятилетия ХХI века), то по аналогии возникает детерминант «внутренняя форма кино». Раскрыть ментальное русского народа и его культуры через кино становится необходимым, поскольку культурная форма кино связана с социокультурной коммуникацией, включающей объекты, явления и процессы при его создании, которые также могут образовывать антогонистические пары «своих и чужих». Сёрен Кьеркегор датский философ, теолог, писатель ещё в XIX веке обозначил вектор развития личности, выделив эстетический, этический и религиозный путь его развития. Современный кинематограф во многом исследует образы сегодняшнего дня, похожие на те, которые Кьеркегор рассматривал два века назад. Конечно, для нас интересен человек нравственный, который ищет духовное начало в себе. Показательно, что поиск духовного в себе, по мнению философа, идёт через отчаяние. С подобным кинематографическим образом мы встречаемся в кинотексте «Юрьев день» Кирилла Серебренникова. Главная героиня фильма, оперная дива Любовь Павловна (актриса Ксения Раппопорт), потеряв сына, расстаётся с тем положением в обществе, которого достигла, и становится уборщицей в туберкулёзной тюремной больнице. Ожидая возвращения сына, она идёт в церковный хор в поисках утраченной души. Слесарь Дмитрий Никитин (актёр Артём Быстров) в кинофильме «Дурак» Юрия Быкова пытается бескорыстно помочь людям, которые его убивают. «Не вкусивший горечи отчаяния не в состоянии схватить истинной сущности жизни» (С. Кьеркегор). Такие персонажи противопоставлены тем, кто живёт ради чувственного удовольствия, как персонаж Витька (актёр Евгений Ткачук) из фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта или Софьи Майер (актриса Ксения Раппопорт) в фильме «Дама пик» Павла Лунгина.
«Свои и чужие» в эстетической и этической группе деление весьма условное. Любое движение к нравственному совершенству переводит героев в разряд «своих». Любое безнравственное деяние приближает к противоположному лагерю «чужих». Даже отчаяние, которое помогает искать в себе духовную составляющую для третьей религиозной группы, выделенной Кьеркегором, приобретает отрицательный смысл, ведь отчаяние для верующего человека – один из смертных грехов. Он предполагает, что человеку необходимо на протяжении всей жизни не успокаиваться, всегда помнить о своём греховном несовершенстве, бояться союза с дьяволом и 61
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations бороться с ним, призывая Бога на помощь. Наиболее яркие персонажи в современном кинематографе, следующие символу веры – это Александр Ионин (актёр Сергей Маковецкий) в кинотексте «Поп» Владимира Хотиненко; князь Владимир (актёр Данила Козловский) в фильме «Викинг» Андрея Кравчука; митрополит Алексий (актёр Максим Суханов) в «Орде» Андрея Прошкина; отец Анатолий (актёр Пётр Мамонов) в «Острове» Павла Лунгина и другие. Потребность показать верующего человека в эпоху возрождения храмового строительства и возвращения православной веры сродни сегодня социальному чуду.
Достаточно вспомнить, как были показаны работники культа в советском кинематографе «Нахалёнок» (режиссёр Евгений Карелов); «Неуловимые мстители» (режиссёр Эдмонд Кеосаян); «Двенадцать стульев» (режиссёр Леонид Гайдай). Этот тип персонажей всегда награждался отрицательными характеристиками: жадных, злых, ущербных, лживых, неумных, неверующих людей, помогавших всем, кто был настроен против советской власти. Часто режиссёры создавали их комическими персонажами, добавляли сатирических и иронических красок к образу. Прежде они всегда были антигероями, «чужими». Сегодня работники культа, как правило, возглавляют группу «своих». Хотя справедливости ради необходимо отметить, что внутри этой группы может существовать противостояние. Так в фильме «Юрьев день» показан настоятель монастыря, которого скорее можно определить к разряду «чужих» , думающих о мирском больше, чем о духовном . Неоднозначную характеристику можно дать священникам, показанным в кинопритче «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Ученик» Кирилла Серебренникова. Зрителю необходимо понять, что эта характеристика гораздо сложнее, нежели ранжир или ярлык, который можно присвоить раз и навсегда, следуя социальному или политическому заказу времени.
В творчестве Тарковского мы находим целый мир, галактику, космос. Он населён «своими и чужими» во всех ипостасях. Это и враждебно настроенный космос, и враг-захватчик, и неприкаянные поиски «себя в себе», в «чужих», в Боге, это постоянное отражение своей боли от недосказанности, это понимание всех и вся и способность принести себя в жертву, это щемящее чувство любви к родному дому, к родному порогу, к родине, это вечное стремление к пониманию и обретению родственной души, это сила творческого прозрения и многое другое, что делает творчество этого художника неиссякаемым источником для современных кинорежиссёров [3].
Проблема проявления «своих и чужих» касается человека, его восприятия мира вокруг себя и внутри себя. Философская теория, допускающая в любой данной области два независимых и несводимы друг к другу начала называется дуализмом (от лат. dualis – двойственный). 62
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Диалектическая сущность процесса идентификации из разряда вневременных и внепространственных категорий, то есть вечная тема распознавания «себя», «чужого», «себя в чужом» и «чужого в себе» бесконечна . Не всегда в реальной жизни возможно честно ответить на насущные вопросы: кто ты, какой ты, какие цели преследуешь, кого предпочитаешь в себе: «своих» или «чужих», какие пути развития предпочитаешь, считаешь ли «инакость» отрицательной или положительной характеристикой индивида.
Эстетическая антропология художественных образов может быть исследована через символику цвета (белые и красные: режиссёр Н. Михалков 2014 г., «Солнечный удар» [9]); звука (гармония и какофония: режиссёр К. Серебренников 2008 г., «Юрьев день»); человека (национальная и социальная принадлежность: режиссёр А. Прошкин 2012 г., «Орда»); взаимоотношения в семье (внутрисемейные отношения: режиссёр К. Серебренников, 2012 г., «Измена», 2016 г., «Ученик»; режиссёр А. Звягинцев 2011 г., «Елена», 2017 г., «Нелюбовь»; режиссёр П. Лунгин 2012 г., «Дирижёр», 2016 г., «Дама пик», режиссёры Н. Назарова, А. Касаткин 2012 г., «Дочь» [10]); взаимоотношения профессиональные (внутри коллектива: режиссёр Ю. Быков 2014 г., «Майор», 2014 г. «Дурак»); сюжета (мифологический и фольклорный: режиссёр А. Балабанов 2012 г., «Я тоже хочу»; режиссёр Р. Литвинова 2012 г., «Последняя сказка Риты» [11]); жанра (комедия и трагедия: режиссёр Н. Досталь 2016 г., «Монах и бес»; 2009г., «Петя по дороге в Царствие Небесное» [12]); веры (внутри православного монастыря: режиссёр П. Лунгин 2008 г., «Остров» [13]).
Таким образом, киноискусство – вид новой коммуникации, который притягивает к себе и временно снимает внутреннее противоречие, ведь оно моделирует определённое столкновение как внутри групп, так и внутри себя. Эксперимент в кино по идентификации «своих и чужих» снимает противоречие внутри человека, нейтрализует «чужих» внутри «своих» . Человек в своей двойственности подобен наполовину заполненному сосуду. «Чужие» – это дисгармоничная пустота, которая тревожит, не даёт покоя.
Одни, настроенные против пустоты, пытаются избавиться от неё, её боятся, стремятся к заполнению пустоты в себе, замещают её «своим» . Другие воспринимают пустоту положительно, как объективную составляющую бытия, видят в ней путь, направление к развитию. При этом они также стремятся к заполнению пустоты, чтобы реализовать себя, выполнить своё предназначение.
Чаще всего жизнь человека гораздо короче его планов. Многие не успевают заполнить пустоту в себе в земной жизни. Достичь просветления в земной жизни (заполнить в себе «чужого» « своим» ) возможно только для святых. Значит ли это, что Космосу необходимо находиться в паритетном состоянии между «своими и чужими», чтобы жизнь на земле не
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations прекращалась? Кино, в дополнение к философским, историческим, социальным, антропологическим изысканиям в области категории «свои – чужие» в конечном итоге помогает понять, что «свои и чужие» в человеке категория виртуальная, на самом деле не существующая, определяемая индивидом, которому свойственно стремление к постижению истины, к познанию себя, но также свойственно и ошибаться.
Порядок – «свой» и хаос – «чужой» соразмерны в человеке, их присутствие необходимо человеку, чтобы чувствовать себя живым. Если полностью изъять хаос, то теряются границы порядка. Если полностью изъять порядок, хаос стремится к космосу, пополняя пустоту или неразличимые чёрные дыры. Одно без другого не существует. Размытость границ между
«своими и чужими» говорит о другом измерении, за пределами земной жизни.
В кинотексте можно маркировать границы между «своими и чужими» во всех сферах жизни. Кинотекст не только помогает разобраться в этом вопросе с антропологической точки зрения, но и через художественный язык образов пытается отделить одних от других. Экранизация, перевод мыслей на язык кинематографа часто содержит в себе ответы на поставленные вопросы через систему кодирования.
Список литературы «Свои и чужие» в художественном языке современного кинематографа
- Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 336 с.
- Белкин А.И. Ионесов В.И. Коммуникация в контексте сознания и социодинамики культуры // Известия Cаратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2016. Т. 5, № 4. С. 315-322.
- Ионесов В.И., Белкин А.И. К вопросу о ритуале в дискурсе культурологического знания // Аспирантский вестник Поволжья. 2016. № 7-8. С. 47-51.
- Делёз Ж. Кино. Кино 1: Образ - движение. Кино 2: Образ - время: пер. с фр. М.: Ад Маргинем, 2004. 623 с.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. 263 с.
- Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах перехода и символах спасения // В сборнике: Национальное культурное наследие России: региональный аспект VI Всероссийская научно-практическая конференция в рамках VII Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного танца имени Геннадия Власенко. Самара: СГИК, 2018. С. 17-25.
- Ионесов А.И., Ионесов В.И. Малая энциклопедия зарубежной Самаркандианы: культура, объединяющая мир // Науч.-информ. изд. / Самаркандский общественный Музей мира и солидарности; Самарское культурологическое общество "Артефакт - культурное разнообразие"; Самарская государственная академия культуры и искусств. Самара-Самарканд, 2014. 483 с.
- Ионесов В.И. Императивы свободы и гуманизма в культуре: некоторые феноменологические прояснения // Аспирантский вестник Поволжья. 2008. № 1-2. С. 30-34.
- Орищенко С.С. Отражение русской революции в кинематографе: от "Окаянных дней" И. Бунина до "Солнечного удара" Н. Михалкова // Память о прошлом-2017. материалы и доклады VI историко-архивного форума, посвящённого 100-летию революции 1917г. в России. 2017. С. 526-534.
- Орищенко С.С. Кто прячется за маской добропорядочного человека? (Фильм Александра Касаткина и Наталии Назаровой "Дочь") // Известия СНЦ РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. Самара, 2017. Т. 19 № 1. С. 98-101.
- Орищенко С.С. Заигрывание с образом смерти и его карнавализация. (Фильм Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты") // Известия СНЦ РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. Самара, 2016. Т. 18 № 2-2. С. 205-208.
- Орищенко С.С. Мирское и священное в креативных практиках современного кинематографа // Креативная экономика и социальные инновации, 2018. Т. 8. № 3 (24). С. 153-164.
- Орищенко С.С. Предательство и прозорливость в художественном фильме Павла Лунгина "Остров" // Известия СНЦ РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. Самара, 2014. Т. 16. № 2-1. С. 176-181.
- Рузер-Браунинг У.М., Ионесов В.И. Искусство как опыт преобразования культуры // Восьмые Азаровские чтения. Библиотека. Культура. Общество: материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / под ред. И.Ю. Акифьевой. Самара: СГИК, 2018. С. 184-189.
- Cалахиева-Талал Т. Психология в кино. М.: Альпина Паблишер, 2019. 349 с.
- Ямпольский М. Муратова. Опыт киноантропологии. - СПб.: Сеанс, 2015. - 544 с.