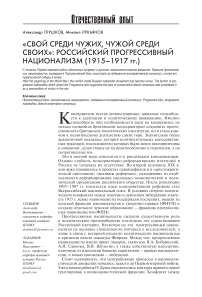"Свой среди чужих, чужой среди своих": российский прогрессивный национализм (1915-1917 гг.)
Автор: Глушков Александр Владимирович, Лукьянов Михаил Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
С началом Первой мировой войны обострился конфликт в русском националистическом движении. Фракция прогрессивных националистов, вошедшая в Прогрессивный блок, выступала за либерально-консервативный консенсус, считая его предпосылкой победы в войне.
Прогрессивный блок, прогрессивные националисты, либерально-консервативный консенсус
Короткий адрес: https://sciup.org/170166094
IDR: 170166094
Текст научной статьи "Свой среди чужих, чужой среди своих": российский прогрессивный национализм (1915-1917 гг.)
К онсерватизм всегда демонстрировал завидные способности к адаптации и политическому выживанию. Именно способность при необходимости идти на компромисс не только позволила британским консерваторам сохранить преемственность британских политических институтов, но и стала ключом к политическому долголетию самих тори. Значительно более драматичной оказалась история континентальных консервативных традиций, последователи которых были менее восприимчивы к новациям, делая ставку не на приспособление к переменам, а на сопротивление им.
Это в полной мере относится и к российским консерваторам. Однако слабость консервативно-реформаторских интенций в России не означала их отсутствие. Во второй половине ХIХ в. они ярко проявились в проектах славянофилов и в «аристократической оппозиции» «великим реформам», исходивших из необходимости реформирования социально-экономической и политической организации российского общества. После революции 1905–1907 гг. носителем идеи консервативной реформы стал Всероссийский национальный союз. В условиях острого политического конфликта между властью и думскими либералами в августе 1915 г. левые националисты поддержали последних, вышли из думской фракции националистов и умеренно-правых (ФНУП) и создали отдельное думское образование – фракцию прогрессивных националистов (ФПН).
Прогрессивные националисты сыграли существенную роль в политическом противоборстве последних лет существования Российской империи. Несмотря на это, прогрессивный национализм не вызывал специального интереса у исследователей, а лишь в связи с историей русского политического национализма и кризисом власти накануне Февраля. Между тем, прогрессивные националисты имели ярких лидеров, таких как В.А. Бобринский, А.И. Савенко, В.В. Шульгин, а также собственную идеологию, отличную от идеологии бывших соратников – правых националистов, и новых союзников – либералов.
Стоит подчеркнуть, что центробежные процессы в националистическом движении начались задолго до Первой мировой войны. Уже в начале работы IV Думы определились контуры правой и левой группировок в националистической фракции. Конфликт между левыми и правыми националистами проявлялся не только на общегосудар -ственном, но и на региональном уровне. Особенно заметным он был в Киевском клубе русских националистов, видную роль в котором играли будущие лидеры ФПН Савенко и Шульгин. В январе 1914 г. Савенко был переизбран пред -седателем Клуба. Ориентировавшиеся на официальное руководство фракции националистов члены клуба во главе с С.М. Богдановым демонстративно его покинули.
Первая мировая война углубила раскол в рядах националистов. В то время как лидеры ФНУП тяготели к сотрудниче -ству с правыми, левые ориентировались на сближение с либералами. В августе 1915 г. большая группа левых национали -стов примкнула к Прогрессивному блоку, назвав себя «националистами прогрес -сивного толка»1. В их заявлении о выходе из фракции говорилось: «Разразившаяся над Россией война, к нашему великому сожалению, подчеркнула разницу в наших взглядах»2. Позднее Савенко отмечал, что образование блока стало ответом страны на неудачи в войне.
Действия прогрессивных национали -стов встретили решительное осуждение бывших соратников. Националистов, присоединившихся к блоку, упрекали в отсутствии сколько нибудь определен ных политических установок. Эти рассу-ждения не были безосновательными. По сути дела, к лету 1915 г. левые национали сты оказались в безвыходном положении. В случае распада фракции они риско -вали исчезнуть с политической арены. Вступление в Прогрессивный блок в качестве самостоятельной политической группы открывало им перспективу поли тического выживания.
Впрочем, для раскола фракции имелись и более глубокие причины. В то время как ее официальное руководство связы вало победу в войне с отказом от сколько нибудь существенных преобразований во внутренней жизни, прогрессивные наци оналисты настаивали на необходимо сти реформ. Опасен не крен влево, рас суждал Савенко, а отсутствие движения, к которому призывают правые силы. «Я убедился, что крайне правые ведут страну к гибели и решил отмежеваться от них», — так он объяснял свое поведение вскоре после формирования Прогрессивного блока3.
Традиционно считается, что прогрес -сивные националисты сделали значи тельные уступки либералам, пожертвовав основополагающими элементами своего кредо. По мнению некоторых исследо вателей, они пошли на односторонние уступки в польском и еврейском вопро сах и даже отказались от защиты аграр ных интересов в Западном крае4.
Сами прогрессивные националисты подчеркивали, что уступки участников блока были взаимными. Кадеты также скорректировали свои требования, в част ности, заменив лозунг «ответственного министерства» лозунгом «министерства доверия». «Если кадеты пошли на боль -шие уступки и жертвы, — писал Савенко, — то и правому крылу блока необходимо было решиться на то же. И мы это сде-лали в полном и глубоком убеждении, что это необходимо для блага отечества»5.
По мнению Шульгина, положения программы блока никоим образом не противоречили взглядам националистов: «уравнение крестьян в правах» — вопрос, предрешенный еще Столыпиным; вполне вегетарианское «волостное земство»; прекращение репрессий против «мало российской печати», которую никто не преследовал; «автономия Польши» — нечто совершенно уже академическое в то время, ввиду того, что Польшу заняла Германия»6. К тому же польский и фин -ляндский вопросы намеренно были сформулированы в программе весьма неопределенно, чтобы не обострять вну триблоковые противоречия.
По данным Р. Эделмана, среди прогрес сивных националистов (по сравнению с правыми) было меньше людей с высо-ким социальным статусом (44% против 66%) и больше крестьян (32% против 9%). Прогрессивные националисты были более «подвижными», ближе к обще ственности, среди них оказались наибо лее яркие ораторы, широко известные за пределами Думы.
Войдя в состав Прогрессивного блока в середине августа 1915 г., прогрессивные националисты (первоначально 36 чел.) последовательно придерживались линии блока как в своих высказывания с дум -ской трибуны, так и в газете «Киевлянин». Прогрессивный блок стал для них оли-цетворением единения консервативной части общества с либеральной. Главных же политических противников прогрес сивные националисты видели не слева, а справа от себя: крайне правые «наносили удар с тыла».
Присоединившись к блоку, прогрессив ные националисты продолжали считать себя последовательными монархистами. Шульгин уже после Февральской рево-люции писал в «Киевлянине»: «Никогда мы красными не были. Наша программа изложена в соглашении блока. Мы, пре -жде всего, были монархистами и счи тали совершенно необходимым во время войны иметь министерство доверия. Мы допускали, что оно само собой станет ответственным министерством, и желали постепенного раскрепощения инородцев, что, однако, по нашим понятиям, должно было совпадать с раскрепощением про стого русского народа из оков бедноты и невежества»1.
В составе блока прогрессивные националисты продолжали придержи ваться великорусского национализма, хотя от многих составляющих довоен ного националистического дискурса в новых условиях пришлось отказаться. Так, принадлежность к блоку застав -ляла избегать антисемитской риторики; более осторожным стало отношение к польскому вопросу, особенно учитывая обещание польской автономии после войны, данное в знаменитом манифе-сте верховного главнокомандующего 1 августа 1914 г. Главной целью в отноше -ниях с Польшей, по мнению Шульгина, должно было стать установление дру жественных отношений на основе при знания взаимных прав и обязанностей. Савенко высказывался по польскому вопросу значительно жестче. Польский вопрос, отмечал он, необходимо решить сразу и целиком («списать с Галичины автономию»), Западный край надлежало сделать полностью русским. При этом существование вопроса украинского вообще не признавалось. Шульгин считал украинскую культуру и украинский народ изобретением украинских национали стов, тогда как, по его мнению, они явля лись на самом деле интегральной частью русской культуры и русского народа2.
Прогрессивные националисты с насто роженностью отнеслись к правитель ственной кампании против «немецкого засилья», ударившей по русским поддан -ным — этническим немцам. Шульгин был убежден, что отбирать землю у немцев, воюющих в русской армии, — «величай-шая глупость»3.
Конфликт между правительством и думской оппозицией неуклонно нарас тал. Вместе с блоком постепенно сме-щались влево и прогрессивные нацио налисты. Если в октябре 1915 г. Савенко подчеркивал деловой характер оппози ции правительству, то через месяц на совещании у председателя бюро блока А.Н. Меллера - Закомельского шла речь о резолюции с прямы м осуждением правительства в целом. Судя по запи сям П.Н. Милюкова, ее проект, сфор мулированный Шульгиным, выглядел в сжатом виде следующим образом: «1) война до конца, нет мира; 2) привет армии — нашей и союзникам; 3) все для армии, ее снабжения и нужд — забота об армии; 4) война будет длительная, нельзя убаюкиваться временными успехами; 5) “внутренний мир”; 6) осуждение пра-вительства, которое не понимает этого»4.
Осенью 1916 г. Прогрессивный блок выступил с прямыми нападками на правительство. Заседание Думы 1 ноя бря 1916 г. стало началом «штурма вла сти». Здесь одну из лучших своих речей в Думе произнес Шульгин. Он заявил, что «всегда думал, что дурная власть лучше безвластья, но терпеть уже дальше некуда». Выход один: «бороться с этой властью до тех пор, пока она не уйдет»5. Речь Шульгина была настолько из ряда вон выходящей, что впервые за все время его думской деятельности она не прошла цензуру.
Зимой 1916–1917 гг. левый крен фракции продолжился. Давно разочаровавшись в правительстве, прогрессивные националисты теперь разочаровались в Думе и в ее способности навести порядок в стране. Пессимистические настроения, понимание бесперспективности предотвращения катастрофы овладело многими думцами. Буквально накануне февральских событий сложил с себя полномочия товарища председателя Думы один из лидеров прогрессивных националистов – Бобринский.
Таким образом, идейно-политические установки прогрессивных националистов сохранили прямую преемственность с изначальными установками Всероссийского национального союза. Оставаясь консерваторами, в условиях войны они пришли к убеждению в необходимости тесного сотрудничества с либеральными силами. В течение всего периода существования Прогрессивного блока прогрессивные националисты неуклонно отдалялись от правых и сближались с кадетами. Однако полностью интегрироваться в оппозиционную среду прогрессивные националисты не смогли, оставшись поборниками более авторитарных политических форм российской государственности, чем их либеральные коллеги.
Это стало результатом разрыва между российскими консерваторами и либералами. Тенденция к консервативнолиберальному консенсусу была слаба. В такой ситуации шаг навстречу оппоненту воспринимался как покушение на политическую измену. Те кто на такого рода шаг решался, становился «чужим среди своих», не становясь «своим среди чужих». Умеренные консервативные и либеральные элементы в годы Первой мировой войны так и не смогли преодолеть взаимное недоверие, что стало важнейшей предпосылкой политической радикализации страны и, в конечном итоге, прихода большевиков к власти.