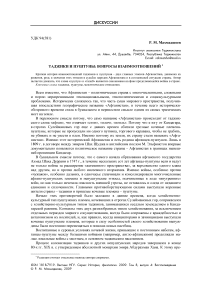Таджики и пуштуны: вопросы взаимоотношений
Автор: Махмадшоев Рахматшо Махмадшоевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Краткая история взаимоотношений таджиков и пуштунов - двух главных этносов Афганистана, динамика их развития, роль и значения этих этносов в судьбах народов Афганистана и в сегодняшней ситуации страны. Автор пытается доказать, что слова «пуштун» и «талиб» являются синонимами на фоне продолжающейся войны в стране.
Таджики, пуштуны, межэтнические отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14737108
IDR: 14737108 | УДК: 94(581)
Текст научной статьи Таджики и пуштуны: вопросы взаимоотношений
Всем известно, что Афганистан – полиэтническая страна с многочисленными, сложными и порою неразрешимыми этнонациональными, этнополитическими и социокультурными проблемами. Исторически сложилось так, что часть суши мирового пространства, получившая впоследствии географическое название «Афганистан», в течение всего исторически-обозримого времени стала в буквальном и переносном смысле одним из самых трагических мест на земле.
В переносном смысле потому, что само название «Афганистан» происходит от таджикского слова «афган», что означает «стон», «плач», «вопль». Потому что к югу от Кандагара, в отрогах Сулеймановых гор еще с давних времен обитали грозные кочевые племена-пуштуны, которые не пропускали ни одного путника, торгового каравана, чтобы не грабить, не убивать и не увести в плен. Именно поэтому их земли, их страну стали называть «Афганистан». Именно этот исторический Афганистан и есть родина афганцев-пуштунов. Лишь в 1809 г. в договоре между эмиром Шах Шуджа и английским послом М. Эльфинстон впервые документально появляется политическое название страны – Афганистан в границах нынешней провинции Кандагар.
В буквальном смысле потому, что с самого начала образования афганского государства Ахмад Шаха Дуррани в 1747 г., в течение нескольких сот лет афганцы-пуштуны вели и ведут не только войны за расширение «жизненного пространства», за верховенство одного клана над другим, но и против любого иноземного вторжения. Именно войны, особенно против «чужаков», особенно дальних, в одночасье сплачивали и консолидировали многочисленные афгано-пуштунских племена и непуштунские этносы, подчиненные в ходе «внутренних» войн, но как только исчезала опасность внешней угрозы, не оставалось и следа от недавнего единения и сплоченности. Главными противоборствующими силами выступали коренные жители страны – таджики и пришлые кочевые племена – пуштуны.
Начало этих противоречий было заложено в давние времена, когда хозяйственнокультурный тип пуштунских племен, кочевавших в отрогах Сулеймановых гор, соприкасался с хозяйственно-культурным типом таджиков, занимавшихся оседлым земледелием в Кандагарской равнине. Контакты этих двух разнообразных типов хозяйствования, за исключением отдельных периодов мирного сосуществования, всегда были сопряжены с враждебностью и антагонизмом их носителей, и, как правило, всегда инициаторами и зачинщиками выступали кочевые пуштунские племена, которые в силу особенностей своего хозяйствования вынуждены были постоянно перемещаться в поисках новых пастбищ.
Воспитанные в суровых условиях кочевой жизни, привыкшие к постоянным набегам, афганцы-пуштуны между большими войнами (например, англо-афганскими) продолжали малые локальные войны с местным, в основном таджикским населением.
Процесс колонизации таджиков и других непуштунских народов завершился в конце 80-х гг. XIX в. с утверждением абсолютной монархии эмира Абдурахман Хана. К этому вре-
∗ Редакция считает отдельные выводы автора спорными.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © Р. М. Махмадшоев, 2009
мени политическое название страны – Афганистан получает окончательное документальноюридическое оформление. Однако, как нам кажется, распространение этого названия на значительные, колонизированные территории таджиков и других неафганских этносов было насильственным актом победившего этноса – пуштунов и никак не соответствовало естественно-исторической, этно-социокультурной действительности.
Последующая политика насильственной пуштунизации страны, проводимой правящей, националистической пуштунской элитой, дискриминация и ущемление национальных интересов непуштунских народов, жестокие репрессии в отношении этнических и религиозных общностей (таджиков, хазарейцев, нуристанцев и др.) послужили причиной глубоких межэтнических противоречий, многочисленных антипуштунских выступлений. Тем не менее афгано-пуштунский национализм, переродившийся в 30–40-х гг. ХХ в. в пуштунский шовинизм, становится официальной доктриной государства, приведшей к дальнейшему ухудшению этнополитического и этноконфессионального положения в стране.
Политика пуштунских властей по отношению к таджикам и другим непуштунским народам, направленная на конфискацию их земель и передачу пуштунам, ужесточение налогового бремени и земельного законодательства в отношении непуштунского крестьянства и предоставления значительных льгот и даже финансовых инъекций для пуштунов приводили к массовому обезземеливанию и обнищанию таджикского и другого, непуштунского крестьянства, к общей экономической отсталости районов их расселения и нарастанию их враждебности к пуштунским властям, напряженности и межэтническим конфликтам.
Естественно, что в течение столетий в процессе этих стычек, конфликтов, разорительных кочевых набегов и войн за «жизненное пространство» таджики и другие непуштунские этносы, оказавшиеся под политическим, национальным и экономическим гнетом пришлых, чуждых им пуштунских племен, не испытывали к ним никаких чувств, кроме неприязни и вражды.
Такие же чувства испытывали пуштуны, и особенно националистически и шовинистически настроенная пуштунская элита, по отношению к непуштунским этносам, более всего к таджикам. Это особо ярко проявилось, когда в 1929 г. в азарте борьбы за трон в Кабуле пуштуны не разглядели, как к власти пришли истинные хозяева страны – простые таджикские крестьяне во главе со своим «Робин Гудом» – Бача-и Саккао.
Такой поворот событий ополчил против таджиков все пуштунские племена, еще вчера яростно сражавшиеся между собой. Пуштунская элита во главе с Мухаммада Надирханом, всячески унижая таджиков, называя их «кучкой воров», «босоногой чернью» и т. д., призывала «гордых» пуштунов не забывать кодекс чести пуштунов, не позорить себя и выступить единым фронтом против таджиков. Тогда в конце 1929 г. не без помощи Советского Союза и прямой финансовой и военной поддержки Англии пуштунам удалось вероломно, нарушив данную на страницах Корана клятву «сотрудничать с правительством таджиков», войти в открытые ворота кабульской крепости и истребить правительство Бача-и Саккао.
В последующие почти семьдесят лет правящая пуштунская элита проводила целенаправленную политику экономического и национального гнета по отношению к таджикам и другим непуштунским этносам – политику пуштунизации всей страны,
Нарастающий кризис во всех сферах общественно-политической жизни в 1960–1970-х гг. выявил глубокие этнополитические, межэтнические и этноконфессиональные разногласия в обществе, завершившиеся апрельской революцией 1978 г.
Казалось, что поставлена точка на более 200-летней власти пуштунов, что согласно целям и задачам народно-демократической революции всем народностям и этническим группам будут представлены широкие демократические свободы, распутан и разрешен сложный узел межнациональных отношений.
Однако пришедшая к руководству страной фракция «Хальк» НДПА, состоящая преимущественно из пуштунской элиты, взяла курс на восстановление «законного» права пуштунов на государственную власть. С этой целью были предприняты суровые репрессивные меры по устранению политических противников, прежде всего, из числа непуштунской элиты, проводилась жесткая и однозначная политика пуштунизации всех сфер общественной жизни, преследования любых проявлений либерализма в национальном вопросе, недопущения представителей непуштунских этносов в госаппарат, армию, министерства, ведомства и т. д. Все это привело к открытому вооруженному выступлению непуштунского населения против антинародного режима, их обособлению от центрального правительства.
В такой острополитической обстановке, когда в стране разгорелась гражданская война, фракция «Парчам» НДПА, сменившая халькистов в начале 1980 г., предприняла попытки к исправлению допущенных перегибов и ошибок в национальном вопросе. Однако некоторая демократизация общественной жизни, попытки национального примирения, легализация политических оппонентов, открытие дебатов в парламенте по национальным проблемам, свободное обсуждение идеи федерализма в стране и установление прямого диалога с этническими общностями не смогли продлить агонию режима и спасти по сути дела последние остатки власти пуштунов в стране.
Анализ политики пуштунских властей в национальном вопросе показывает, что она проводилась по образу и подобию и в какой-то мере была идентичной с политикой по национальному вопросу, проводимой в Советском Союзе. Разница заключалась в том, что в Стране Советов хотели ввести понятие «единый советский народ», а в Афганистане хотели навсегда стереть из сознания людей понятия «таджик», «узбек», «хазара», а вместо этого искусственно создать «единый афганский народ», но говорящий только на языке пушту.
Как известно, эти эксперименты и для Советской империи, и для Афганистана закончились катастрофой. Если для народов Советского Союза она обернулась разводом по национальным квартирам и парадом суверенитетов, то Афганистану была уготована участь быть ввергнутым в пучину новой кровавой, межэтнической и межрелигиозной войны. Вчерашние союзники - таджики, пуштуны, узбеки, хазарейцы и другие этнические общности, объединенные на платформе борьбы с советскими войсками и просоветским режимом в Кабуле, добившись своей цели, теперь в борьбе за власть перегруппировались на этноконфессиональ-ной платформе. По сути дела, страна раскололась на два противоборствующих лагеря -непуштунских народов севера и пуштунов юга. Высвободившаяся энергия многомиллионных масс непуштунского населения в лице своих лидеров, партий и движений была направлена на взятие власти не только в своих этнических анклавах, но и в Кабуле.
Впервые пуштуны почувствовали, что безраздельное «право» править всеми остальными теперь принадлежит не им, а «всем остальным». И в первую очередь, такое право исторически и действительно по справедливости принадлежало одному из главных и автохтонных этносов страны - таджикам, которые в трагические периоды истории Афганистана, будь то английское или советское вторжение, консолидируя и объединяя народные массы всех национальностей, спасали судьбу своей общей родины.
Именно таджики во главе со своим легендарным лидером Ахмад Шахом Масудом и главой партии «Исламское общество Афганистана» Б. Раббани возглавляли борьбу народных масс за свободу своей родины и впервые легитимно, по праву победившего этноса в 1992 г. взяли власть в свои руки. Переход реальной политической власти в руки таджиков во главе с Б. Раббани поднял против них не только всех пуштунов - традиционных и давних соперников, но и выявил новых соперников - претендентов на политическую власть из числа других, непуштунских этносов. На этой почве возникли немыслимые до той поры кратковременные альянсы и союзы пуштунов, узбеков, хазарейцев, выступавшие против правительства Б. Раббани [Шохуморов, 2001].
Лидеры пуштунских националистических движений внутри страны и в Пакистане, в целях дискретизации таджикского правительства Б. Раббани, обвиняли его не только в неспособности стабилизации обстановки достижения мира и согласия в стране, разрешения острых эт-ноконфессиональных конфликтов, но и налаживания «хороших отношений с историческим врагом - Россией» [Князев, 2004. С. 153].
Действительно, после многолетней гражданской войны, экономической, экологической и гуманитарной катастрофы, восстановить мир и согласие, стабилизировать экономику, залечивать нанесенные раны - эти, исключительно трудные задачи были не по плечу не только правительству Б. Раббани, но и любым другим политическим группировкам, рвущимся к власти. В этом можно убедиться и сейчас, когда все усилия мирового сообщества по стабилизации обстановки в Афганистане не дают ожидаемых результатов.
Одним словом, этнополитический и этноконфессиальный раскол в этом полиэтническом обществе был настолько глубоким, афганский «Ноев ковчег» был настолько сильно раска- чан, что все усилия правительства Б. Раббани по консолидации и примирению этносов страны оказались безрезультатными.
Усугубляли эту трагедию заинтересованные мировые державы, преследовавшие свои геополитические цели, титульные нации соседних государств, стремящиеся увидеть во власти в Афганистане своих этнических соплеменников или единоверцев. Так, таджиков Афганистана материально и морально поддержал Таджикистан, узбеков – Узбекистан, хазарейцев – Иран, пуштунов – Пакистан.
Воинственный пуштунский национализм, увидев бесперспективность достижения своей главной цели – вернуть власть в стране, теперь возлагал надежду на новую политическую силу – талибан.
До сих пор нет единого мнения о происхождении талибов. Одни считают их продуктом афганской действительности [Шохуморов, 2001], вторые считают их детищем спецслужб Пакистана, Саудовской Аравии, ЦРУ, США [Пластун, Андрианов, 1998. С. 5, 122], третьи считают их «детьми войны» [Рашид, 2001. C. 51] со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно же, при возникновении движения «Талибан» все эти и многие другие факторы имели место. Так, например, в результате недальновидной политики Советского Союза по отношению к Афганистану и развязывания войны все то позитивное, что было достигнуто в советско-афганских отношениях трудом не одного поколения истинных друзей Афганистана, было сведено на нет, а страна превращена в руины. Сотни тысяч людей погибли, были искалечены, покидали свою родину, стали беженцами. В связи с этим В. Н. Пластун и В. В. Андрианов писали: «С тяжелыми боями, оставляя очередные трупы… мы вывели войска из Афгана…, раздув пожар войны, подобный пожару в сибирской тайге, уходя, мы оставили много тлеющих головешек, которые ныне не просто тлеют, а поддают жару для новых зон ожесточенных столкновений между различными группировками…» [Пластун, Андрианов, 1998. С. 119].
Как нам кажется, без такого грубого, ничем не оправданного вмешательства страны «рабочих и крестьян» в судьбу народов Афганистана не было бы и основания для продолжительной гражданской войны, эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов, появления радикальных движений, таких как моджахеды и талибан.
Но кроме всего прочего, талибы и движение «Талибан» – изобретение сугубо внутрипуш-тунское, детище панпуштунизма, орудие пуштунского шовинизма в деле создания Великого Пуштунистана и восстановления власти пуштунов в Афганистане. Все другие факторы появления феномена талибов вторичны и формировались по ходу усиления этого движения.
Большинство аналитиков, пытаясь понять феномен талибан и значение слова «талиб», упустили из виду существенную деталь, что талибы на политическую сцену вышли не столько для установления истинных норм ислама, сколько для установления власти пуштунов, создания пуштунского «Эмирата Афганистан». Как пишет Ахмед Рашид, в январе 1995 г. лидеры «Талибан» открыто призывали всех пуштунов на войну против таджикского правительства Б. Раббани [Рашид, 2001. С. 52]. Многочисленные пуштунские диаспоры в европейских странах требовали ускорить этот «исторический час» [Аюбзод, 1998].
Таким образом, понятия «талибан» и «пуштун» идентичны. Это есть новая этнополитическая идентификация пуштунов, и в этой связи, скорее всего, прав Ю. В. Босин, считающий, что «противоборствующие силы организованы по этнической принадлежности и провозглашают целью своей борьбы защиту интересов своего этноса или этнической группы» [Босин, 1999. С. 69]. Есть и другая точка зрения. Например, А. А. Князев считает, что формирование таких политических и военизированных структур как «Талибан» происходило не по принципу этнической принадлежности, а в силу «территориальной общности, ориентации на определенного лидера и на определенную внешнюю силу…» [Князев, 2004. С. 154].
Талибы-пуштуны даже свой приход к власти в Кандагаре в 1996 г. обставили как некий триумфальный возврат «законной» власти пуштунов. С этой целью 4 апреля 1996 г., в г. Кандагар был разыгран спектакль, в ходе которого мулла Омар в присутствии собравшихся мулл и талибов, облачившись в «хырка-и муборак» («благословенный плащ»), якобы принадлежавший пророку Мухаммаду и хранившийся в специальном мавзолее со времен Ахмад Шаха Дуррани, объявил об образовании Исламского Эмирата Афганистан, а присутствующие скандировали «мулла Омар амир – ал-муминин» – эмир правоверных [Рашид, 2001. С. 64].
После этого был объявлен «джихад» против правительства Б. Раббани. Последующие военно-политические события показали, что пуштуны-талибы объявили войну не только таджикам, но и всем другим этносам страны, бросившим политический вызов пуштунам.
В отличие от своих покровителей, преследующих геополитические цели, пуштунские шовинисты - талибы имели конкретную цель - силовым путем разрешить межэтнический конфликт в стране, восстановить де-факто и де-юре государство пуштунов. Для практической реализации этих планов они использовали самые изощренные методы и приемы своих предшественников - афганских эмиров.
Эмир Абдурахман Хан в своей книге «Тадж-ат-таварих» упоминает о массовых казнях местного населения при установлении власти пуштунов в таджико-узбеко-хазарейских районах и в Кафиристане. Сцены страшных казней таджикского правительства Хабибуллы Ка-лакони, совершенные Надир-шахом, облетели страницы многих европейских газет, приводя своих читателей в оцепенение.
Однако зверство, дикость и варварство, проявленные талибами в ходе своего триумфального шествия по Афганистану, ввергли в шоковое состояние уже все мировое сообщество. Действуя по принципу «бей своих, чтобы чужим было неповадно», талибы 27 сентября 1996 г. совершили страшную показательную казнь своего соплеменника, президента Наджи-буллы в здании представительства ООН в Кабуле. Этой казнью талибы-пуштуны нарушили один из главных заповедей своего неписанного закона «Пуштунвали», согласно которому враг или противник неприкосновенен до тех пор, пока находится под чьей-либо защитой. Это был акт показательного устрашения, демонстрировавший, что талибы для достижения своих планов ни перед чем не остановятся.
Последующие события полностью подтвердили это. В своей политике создания государства-нации пуштунов талибы взяли курс на насильственное уничтожение или, по крайней мере, уменьшение численности непуштунских этносов. Для этого были серьезные причины.
Во-первых, за все время существования государства пуштунов они никогда не составляли большинства населения. Это только благодаря «изысканиям» многочисленных ангажированных «специалистов» по Афганистану и подсчетам политиков заинтересованных государств, численный перевес оказывался на стороне «пуштунского большинства». Самое интересное в том, что эти «знатоки» Афганистана в течение столетий, без каких-либо статистических данных (в Афганистане никогда не проводилась перепись населения, еще эмир Абдурахман-хан высмеивал их неосведомленность) вводят в заблуждение мировое сообщество и таким образом льют воду на мельницу пуштунского шовинизма, и в какой-то мере повинны в трагедии народов Афганистана.
Во-вторых, за долгие годы противостояния и гражданской войны, человеческих потерь и серьезного нарушения традиционной миграции миллионных масс пуштунского населения через афгано-пакистанскую границу пуштуны Афганистана в действительности перестали быть «доминирующим этносом».
В-третьих, «пробудившиеся», наконец, непуштунские этносы открыто, «аргументировано» заявили о «праве наций на самоопределение» и претензиях на свою долю власти в стране.
В этих условиях талибы, не без подсказки крупных закулисных политических игроков хотели путем массовых казней таджиков, хазарейцев, узбеков, туркмен, экономической и продовольственной блокады решить национальный вопрос в свою пользу. При этом они особое усердие проявляли по отношению своих главных соперников-таджиков. В районах их расселения талибы-пуштуны, проведя политику «выжженной земли», уничтожали все живое. По рассказам свидетелей, они не жалели даже домашних животных - собак, кошек, ослов. Вырубались сады и зеленые насаждения, сжигались и сравнивались с землей населенные пункты, отравлялись колодцы и т. д.
Таджики Афганистана, следуя исторической традиции, и на этот раз возглавили борьбу народов Афганистана против новоявленных фашистов-талибов и с помощью международных сил, поддержки мирового сообщества одержали победу.
Казалось, наступил мир, талибы навсегда сошли с политической арены, настало время послевоенного обустройства Афганистана, излечивания нанесенных ран. Но возникает извечный вопрос: возможно ли это? Действительно, единого рецепта или панацеи от хронической болезни афганского общества, переживающего «социальную драму», не существует.
На переходном этапе, в условиях межэтнического противостояния, всеобщего кризиса и потери ориентиров у индивидов обостряется чувство тяготения к «крови», «почве», осознания принадлежности к определенной этнической общности. Эти чувства, облекаемые интеллектуальной элитой этноса в определенную идеологию, используются для социальной мобилизации масс и достижения своих целей [Волкогонова, Татаренко, 2001].
В этом противоборстве этнополитических группировок общественно-политический кризис нарастает в арифметической прогрессии. За все время существования «афганского вопроса» ни один из вариантов решения проблемы, предложенных различными политическими группировками, партиями, движениями, общественными и политическими деятелями, международными организациями, в силу того, что по каким-то параметрам не отвечал этнонациональ-ным, конфессиональным или общенациональным интересам, не смог быть реализован.
Среди них были, например, вынужденные предложения советского генералитета в ЦК КПСС о создании Исламской Демократической Республики Афганистан, с правом народов на автономию [Ляховский, 1995], авантюристическая затея бывших президентов Пакистана М. Айюб-хана и Зия ул-Хака о создании афгано-пакистанской конфедерации [Москаленко, 1998. С. 61], или мечта пуштунских националистов о создании «Великого Пуштунистана» [Шохуморов, 2001. С. 242; Рашид, 2001. С. 280] и др.
Последняя талибская модель решения афганской проблемы - создание Исламского Эмирата Афганистана завершилась для Афганистана гуманитарной катастрофой, разделила общество на глубоко антагонистические этнополитические и этноконфессиональные группировки. Политика геноцида и экоцида, проводившаяся пуштунами-талибами по отношению районов с таджико-узбеко-хазарейским населением, породила глубокую пропасть в межнациональных отношениях, чувство ненависти к шовинистически настроенной части пуштунской элиты. Такая политическая реальность не оставляет никаких надежд на строительство государства-нации на основе одного «доминирующего» пуштунского этноса.
Постталибское коалиционное правительство, возглавляемое этническим пуштуном Х. Карзаем, не оправдало надежд и чаяния народов Афганистана на послевоенное обустройство страны, установление мира и согласия. Более того, наметившаяся тенденция «реанимации» пуштуно-талибского большинства в структурах власти и на местах свидетельствует о том, что с молчаливого согласия или ввиду бездействия администрации Х. Карзая опасность возвращения талибов возрастает с каждым днем. Еще в апреле 2005 г. Х. Карзай на представительном форуме по восстановлению Афганистана официально заявил, что «установление стабильности и безопасности в стране остается пока за пределами возможного» [Лузянин, 2006].
В свете этих событий, заявление Х. Карзая о возможности «присоединиться к мирному процессу» лидера «Исламской партии Афганистана» Г. Хекматиара [Хекматияр..., 2006] наводит на мысль о новых закулисных играх пуштуно-талибской коалиции. Также странными выглядят контакты некоторых лидеров бывшего «Северного альянса» с талибами. Относительно повторного возвращения талибов к власти в Афганистане экс-президент Афганистана Б. Раббани в интервью турецкой газете «Вакит» 2 ноября 2006 г. заявил, что «это возможно только в том случае, если те будут пользоваться поддержкой всех политических сил в стране». Далее он заявил, что «мы не будем воевать с талибами... Если после прихода к власти в Кабуле талибы будут действовать против народа и Ислама, то мы вступим в войну против них» [Бурхануддин..., 2006].
Действительно, в последнее время талибы настолько активизировались, что теперь все говорят об их триумфальном возвращении. Уже со стороны лидеров движения «Талибан» раздаются угрозы, что они отомстят не только правительствам США и Европы, но простым гражданам этих стран [Поляков, 2006]. «Мы считаем возможным убийство простых европейцев, - говорит один из талибских командиров, - потому что они голосовали за свои правительства» [Там же].
Таким образом, талибы бросают вызов всему мировому сообществу. Встает вопрос: какие меры следует предпринять противоборствующим сторонам и мировому сообществу, чтобы предотвратить новую трагедию в Афганистане и обеспечить мир и стабильность в стране? В этом плане, как пишет Р. Г. Абдулло, «таджикский опыт выхода из войны и достижения национального согласия, а, следовательно, и политической стабильности показывает, что… противоборствующие силы, если ими движет стремление видеть свою страну сильным, независимым государством…, способны к отказу от крайностей в своих политических воззрениях и действиях, способны к поиску точек соприкосновения, выходу на компромиссы и взаимные уступки» [Абдулло, 2000].
Следовательно, необходимо стремиться к устранению источников и причин разногласий внутри страны и враждебных, раздражающих внешних факторов, обостряющих ситуацию. Исходя из этого, заинтересованные мировые державы и государства региона должны отказаться от своих геополитических притязаний на Афганистан, прекратить военнополитическую и конфессиональную поддержку отдельным, симпатизирующим этносам, а вместо этого совершить «гуманитарную экспансию».
Важным моментом является политический и государственно-правовой статус Афганистана. Исходя из принципа невмешательства иностранных государств во внутренние дела Афганистана, целесообразно законодательно закрепить за Афганистаном статус нейтрального государства. В связи с этим границы Афганистана, и в особенности участок «линии Дюранда», должны быть неприкосновенными от любого вмешательства и проникновений, в том числе массовых переходов «чужих» пуштунов.
И наконец, по поводу названия страны. Мировой опыт знает немало примеров исправления допущенных ошибок наций и государств в процессе своего исторического развития. Название «Афганистан» относится к категории таких трагических ошибок, принесших неисчислимые беды и страдания населению этой страны. На Востоке есть очень мудрая пословица «доброе имя – половина царства» («номи нек ними давлат»). Может быть, поэтому с целью устранения межэтнической вражды и разногласия вокруг понятий «афган» и «Афганистан», народам Афганистана, политикам, общественным и государственным деятелям, ученым необходимо подумать об этом и вернуться к старинному названию многострадальной страны – Ориёно (Арйана). При такой, казалось бы немыслимой, но вполне осуществимой политико-топонимической трансформации названия страны, устранялась бы главная причина всех ее бед – принадлежность названия страны одному, афганско-пуштунскому этносу, появились бы благоприятные предпосылки для разрешения межэтнических и межконфессиональных противоречий, главным образом между пуштунами и таджиками, пуштунами и всеми остальными этносами страны.
Возникли бы реальные условия для свободного, равноправного участия без исключения всех этносов в управлении государством, для достижения мира, согласия, восстановления разрушенного хозяйства, превращения «страны плача» в страну мира и стабильности.
В противном случае пламя этнополитического конфликта будет гореть еще не одно десятилетие. Ведь уже всем ясно, что «вечного» доминирования пуштунской власти уже никогда не будет, что несмотря на то, что в результате политических манипуляций и мощного военно-политического нажима США и их союзников к власти вновь пришел этнический пуштун Х. Карзай, пуштунская среда больше не сможет быть постоянным поставщиком королей и президентов Кабула [Пастухов, 2007].
Таджики в союзе с другими непуштунскими этносами страны, воевавшие не одно десятилетие против афгано-пуштунской власти, больше не допустят пуштунского политического превосходства. Афганцы-пуштуны в свою очередь никак не могут согласиться с тем, что они больше не могут самочинно управлять страной. В такой патовой ситуации прагматичные политики страны, как, например, Б. Раббани, видят выход из создавшегося положения в создании федеративного государства.
При таком решении главного политического вопроса и возврате к истинно старинному названию страны – Ориёно была бы восстановлена историческая справедливость.
TAJIKS AND PUSHTUS IN CONTEXT OF HISTORICAL AND POLITIKAL EVOLUTION
OF AFGHANISTAN