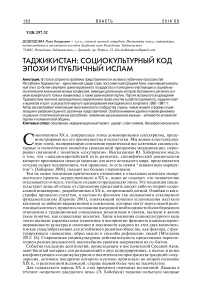Таджикистан: социокультурный код эпохи и публичный ислам
Автор: Додхудоева Лола Назаровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье затронута проблема представленности ислама в публичном пространстве Республики Таджикистан - единственной среди стран постсоветской Средней Азии, накопившей уникальный опыт со-бытия секулярно ориентированного государства и полноценно участвующих в социально-политической жизни религиозных конфессий, имеющих длительную историю бытования в регионе (суннизм ханафитского толка и исмаилизм), а также религиозной партии. Партия исламского возрождения Таджикистана получила законодательно закрепленное право участия в работе парламента, издания газет и журналов и проч. в результате мирного урегулирования межтаджикского конфликта 1992-1997 гг. Автор рассматривает композицию мусульманского сообщества страны, новые модели и формы социализации и репрезентации его различных представителей. Особое внимание уделено новому феномену социально-политической жизни республики: появлению мусульманских женщин - активисток исламской партии и исмаилитской общины.
Секуляризм, модернизационный проект, шариат, совет улемов, биконфессиональность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167609
IDR: 170167609
Текст научной статьи Таджикистан: социокультурный код эпохи и публичный ислам
С окончанием XX в. завершилась эпоха доминирования секуляризма, продемонстрировав все его преимущества и недостатки. Мы живем в постсекулярную эпоху, подвергающую сомнению практически все ключевые социокультурные и политические концепты грандиозной программы модернизации, неразрывно связанной с понятием «секуляризм». Высказанная Ю. Хабермасом мысль о том, что «западноевропейский путь развития, специфический рационализм которого признавался некогда моделью для всего остального мира, представляется сегодня скорее исключением, чем правилом, то есть неким “девиантным маршрутом”» [Хабермас 2008], находит все больше сторонников.
Тем не менее тенденция критического отношения к отдельным аспектам модернистского проекта, осуществленного в ХХ в., вовсе не означает, что человечество отказывается от всего, что было создано в предыдущую эпоху. Эта тенденция свидетельствует лишь об отказе от стремления представить какую-либо из теорий «социальной инженерии», разработанных в ХХ в., непреложной догмой. Ошибки и катастрофы прошлого столетия, в частности феномен так называемого секулярного фундаментализма [Esposito 2003], означающий попытки установления жесткого контроля за любыми выражениями и символами, которые могут иметь некий религиозный контекст, привели к осознанию насущной необходимости более бережного отношения к традиционным социальным механизмам и связям, вызвали к жизни такое понятие, как социальная экология. Такие изменения социокультурного кода эпохи вызвали кардинальные изменения в восприятии феномена взаимодетерми-нированности культуры и политики и значимости каждого из этих двух компонентов как смыслобразующих для устойчивого развития общества, как фактора, структурирующего «поведение, образ мысли и способы рефлексии» людей [Мчедлова 2012: 16]. Современная социокультурная действительность представлена переплетением разных реальностей, высочайшим уровнем напряжения их со-бытия.
События последних десятилетий, происходящие в постсоветской Средней Азии, дают богатый материал для размышлений о двух конкурирующих, а подчас и резко конфликтующих в социокультурном и политическом пространстве традиций: секуляризма, активное внедрение которого в регион произошло во второй половине XIX в., и религиозной исламской, старше первой более чем на тысячелетие.
Для таджикского народа ХХ в. стал временем огромных испытаний. Дважды в течение «короткого двадцатого века» (Э. Хобсбаум) таджики испытали мощные социально-политические потрясения, жесточайшую и молниеносную по историческим меркам ломку общественно-политического строя. Разлом проходил по линии пересечения этих двух традиций.
Первый разлом произошел под натиском большевизма, внедрявшего в регионе секулярные идеи и разрушившего «старый мир», выстроенный на фундаменте шариата – мусульманской правовой системы. Этот процесс вызвал жесткое противостояние и значительные потери в сфере традиционной культуры.
Второй был связан с распадом Советского Союза. Публичный дискурс всех бывших советских республик Средней Азии взорвали болезненные вопросы: как распорядиться богатейшим культурным наследием прошлого и безусловно огромными достижениями советской эпохи? Как выстоять и сформировать «свое лицо» в период грандиозных перемен в мусульманском мире, связанных, с одной стороны, с внутренними социально-политическими причинами, а с другой – с углублением процесса глобализации, принесшей возможность выстраивания социальных информационных сетей, устойчивым присутствием в информационном пространстве и политической пропагандой идей возрождения халифата? [Кисриев 2012: 104-110]
90-е гг. прошлого столетия стали для Таджикистана временем жесткого гражданского противостояния, связанного с нахождением путей обновления общества, принципов построения независимого государства (секулярность или шариат). В 1992 г. столкновение позиций вызвало гражданскую войну, завершившуюся в июне 1997 г. подписанием мирного договора, в положениях которого были учтены интересы противоборствующих сторон, по существу определявшие дальнейшее общественно-политическое развитие страны и повлиявшие на жизнь всего региона.
Один из пунктов мирного договора закрепил политическую легитимацию Партии исламского возрождения Таджикистана (далее – ПИВТ), ее участие в развитии страны. Нельзя было сбрасывать со счетов и активную позицию и усилившуюся социальную значимость исмаилитской общины, руководитель которой имам Ага хан оказал огромное влияние на ход мирного урегулирования в Таджикистане.
В Конституции молодой республики была выражена воля народа – строить Таджикистан как демократическое секулярное государство с полноправным представительством граждан с религиозным мировоззрением, включая функционирование религиозных партий.
До сегодняшнего дня Таджикистан остается единственным государством на территории региона, где представлены две мусульманские конфессии (суннизм хана-фитского толка и исмаилизм), а также активно действует партия религиозного толка, имеющая законодательно подтвержденное право участия в работе парламента, издания своих газет и журналов и т.д.
В мусульманском мире детронизация концепции секуляризма связана, прежде всего, с таким сущностным изменением социокультурного кода и политического ландшафта, как перемещение ислама из частной, семейно-клановой сферы, где, несмотря на грандиозную трансформацию социальной действительности, его позиции на всем протяжении реализации секулярного модернизационного проекта фактически не претерпели кардинальных изменений, в публичное пространство, в самый центр общественного дискурса.
Особо подчеркнем, что фокус данной работы оставляет в стороне другую крупную страту республики – секулярно ориентированных граждан, что, однако, вовсе не означает ее отсутствия в реальности.
Композиция исламского сообщества Таджикистана сегодня далека от одномерности и демонстрирует значительный спектр позиций и взглядов на развитие общества и государства. Анализ этого сообщества позволяет выделить четыре основных прослойки.
-
1. Шурои уламо (буквально – Совет улемов, часто переводится как Совет исламских ученых Таджикистана) состоит из религиозных деятелей, имеющих классическое мусульманское образование. Основная задача этого объединения – пропаганда мусульманских ценностей и формирование на этой основе у верующих толерантного отношения к проблемам в социальной и экономической жизни. По
существу Совет функционирует как мостик между правительственными структурами и мусульманским сообществом, отчего в силу закрепленной в суннизме традиции уклонения от тесного взаимодействия с властью сфера его общественного влияния остается узкой. [Додхудоева 2011: 540-541].
-
2. ПИВТ – создана в 1990 г., насчитывает около 40 000 членов, имеет отделения во всех районах страны. Партия активно вовлечена во все политические мероприятия республики, включая парламентские и президентские выборы, находится в мягкой оппозиции к правительству, стремясь сохранить сбалансированную позицию по целому ряду ключевых вопросов развития Таджикистана и региона.
-
3. Религиозные авторитеты на местах. Эту прослойку представляет довольно обширная группа религиозных деятелей самого разного возраста, уровня образования, спектра социального влияния. Основной фокус их деятельности – воздействие на повседневное поведение людей на уровне городского квартала (маххаля), города, села, района, что, однако, не исключает, при наличии соответствующего образования и/или харизмы, дискуссий по более сложным доктринальным вопросам.
-
4. К четвертой прослойке следует отнести молодежные группировки. Как правило, лидерство в них захватывают молодые люди, сформировавшие свое мировоззрение в различных учебных религиозных центрах (от ал-Азхара до полулегальных курсов в Пакистане) и, чаще всего, мало отягощенные чувством гражданственности. Часть молодежи испытала на себе определенное влияние различных запрещенных, но имеющих богатый опыт активной работы в подполье исламистских групп и течений («Хизб ут-тахрир-и ислами», салафизм, «Таблиг-и джамиат-и ислами» и др.). Было бы неверным не упомянуть и о другом сегменте мусульманской молодежной субкультуры Таджикистана. Это молодые люди, стремящиеся отстоять идентичность таджиков как истинных мусульман в рамках национального, секулярно ориентированного государства, признавая при этом мусульманские ойкуменистиче-ские идеалы. В этом смысле их позиции смыкаются с теми принципами, которых придерживается ПИВТ.
Чрезвычайно важно отметить, что и в своих документах, и в практической деятельности ПИВТ, работающая в атмосфере биконфессиональности, опирается на некую центрированную концепцию ислама [Додхудоева 2013: 77-101]. Хотя в многочисленных партийных публикациях преобладают материалы суннитского толка, в них не акцентированы различия ханафизма и исмаилизма в доктринальной и ритуальной сферах. В случаях упоминания факта биконфессиональности мусульманского сообщества Таджикистана и в публикациях, и в речах представителей ПИВТ эмфаза переносится на принципы, общие для этих двух конфессий.
В последнее время руководство ПИВТ предпринимает шаги по укреплению своих позиций в странах СНГ, на территории которых находится наибольшее число трудовых мигрантов из Таджикистана.
Упомянутые сегменты мусульманского сообщества Таджикистана, безусловно, не существуют в неких отдельных, не сообщающихся друг с другом кластерах. Они находятся в весьма тесном, а иногда, в период борьбы за расширение сферы влияния, и жестком взаимодействии. Однако наша картина окажется неполной, если мы не упомянем о новых формах репрезентации в публичном пространстве республики женщины как активного члена мусульманкой общины [Додхудоева 2014]. Рамки небольшой статьи заставляют нас остановиться на наиболее ярко представленных в общественной жизни страны двух группах мусульманок-активисток: женщинах – членах ПИВТ и активистках исмаилитской общины.
Гендерное измерение композиции ПИВТ выявляет факт, который вызывает и удивление, и, что скрывать, тревогу не только у исследователей: женщины составляют порядка 50% членов партии! Однако такой высокий процент женщин в исламской партии поражает только при первом ознакомлении. Более глубокий анализ гендерной ситуации как в стране, так и в глобальной умме раскрывает целый ряд причин, вызвавших к жизни такую форму репрезентации женщины-мусульманки в публичной сфере.
Новый социальный феномен в республике сформирован целым рядом обстоятельств, впрямую порожденных последствиями гражданской войны, самым зна- чимым из которых и, к сожалению, обычным для всех войн является гендерный дисбаланс. В Таджикистане он усугублен поствоенной массовой (в данном контексте – ключевое слово!) трудовой миграцией мужчин, безжалостно разрушающей привычный уклад семейно-клановой жизни с традиционно закрепленными в ней гендерными ролями.
Эта и другие тесно связанные с ней причины в значительной степени влияют на гендерную композицию и ПИВТ, и актива исмаилитского сообщества, помогая пополнять их ряды за счет женщин как лучше представленного, более уязвимого и не столь мобильного компонента населения, как мужчины. И ПИВТ, и исмаилит-ское сообщество, заинтересованные в расширении своего социального влияния, предоставляют женщине наиболее приемлемые в свете и традиционной исламской культуры, и социальной памяти, сформированной в советское время, формы солидаризации, социализации и репрезентации.
Необходимо особо выделить еще один важнейший аспект, который, к сожалению, очень часто ускользает от исследователей. Огромной психологической травмой для таджикских женщин в изменившихся социально-экономических условиях, особенно связанных с миграцией мужчин, является неясность их статуса в общинной системе координат. Ни одна из жен мигрантов не может знать, каков ее статус в каждый отдельный момент жизни, ведь он в одну секунду может измениться и низвести ее со статуса официальной жены до положения разведенной женщины или вдовы.
Такого рода изменение заставляет женщину, воспитанную в традиционном понимании своей жизненной миссии как дочери, жены, матери, брать на себя роль кормильца всех детей и стариков в своей семье. Традиционная культура не готовит женщину к таким испытаниям. Вовлеченность же в работу и ПИВТ, и различных структур исмаилитского сообщества, не говоря уже о занятии в них реальных должностей, придает женщине реальный статус человека, участвующего в мероприятиях, направленных на улучшение положения общины.
Наконец, чрезвычайно привлекательным является сама идея солидаризации с женщинами сходной судьбы и общих жизненных принципов в понятной с детства системе координат. Ведь если членство в других организациях и партиях может потребовать овладения какими-то новыми понятиями и концепциями (к примеру, участие в работе коммунистической партии связано с пониманием основ марксизма-ленинизма и знанием, пусть элементарным, русского языка), то участие в работе религиозно ориентированных структур воспринимается как следование знакомым с детства ритуальным действиям и религиозной мифологии.
Многочисленные исследователи эпохи Модерна сходятся в одном. Главное в гендерном измерении модернистского проекта – завоевание женщинами права социализироваться в публичной сфере самостоятельно, не через семейные или клановые связи и поддержку, как это было прежде, а путем утверждения себя в качестве полноценных специалистов и личностей, осознавая свою самоценность и реализуя заложенные в них способности [Додхудоева 2013: 138-145].
Исламское сообщество Таджикистана в полной мере использует это завоевание советского/секулярного строя как базовый компонент социальной памяти [Адиб Халид 2010:12].
Сегодня даже те активистки мусульманского сообщества Таджикистана, которые энергично отстаивают принцип возврата к религиозному построению общества и государства, не мыслят себя замкнутыми в домашнем пространстве, осознавая значимость своей публичной деятельности и реализации своих индивидуальных и коллективных полномочий в целях развития общества [Додхудоева 2013:140].
Однако все же главным остается вовсе не внешняя, а содержательная сторона деятельности активисток этих двух различных направлений ислама. Весьма активная позиция женщин – членов исламской партии, выдвижение их на выборах в парламент, тем не менее, не приводят к ликвидации патриархальности в проповедуемых ими идеалах. Весьма показательны не только материалы печатного органа ПИВТ газеты «Наджот», но, пожалуй, более яркие в этом смысле публикации женского журнала «Найсон», издаваемого партией. Главный фокус этих публика- ций – восстановление в женской среде культуры обязанности, служения и долга, формирование мифоритуального типа мышления, столь естественных в контексте патриархальности [Rinaldo 2010].
Активистки же исмаилитской общины ратуют за культуру выбора, присущую секуляризму, однако при этом отчетливо демонстрируют свою конфессиональную идентичность. В этом, безусловно, проявляется уникальный опыт поиска наиболее достойной формы репрезентации своей идентичности и системы взглядов на основе достижения баланса между традицией и модернистским проектом, приобретенный исмаилизмом в XIX–XX вв. [Новейшая история исмаилитов 2013].
Новая форма социализации женщин – носительниц разных исламских традиций приносит им осознание как возможности самореализации и личной ответственности за социальные изменения на локальном уровне, так и чувство приобщенности к глобальному общемусульманскому феномену.
Таким образом, Таджикистан сделал важный шаг по пути формирования гражданского общества с полноправной представленностью разных типов мировоззрения.
Список литературы Таджикистан: социокультурный код эпохи и публичный ислам
- Адиб Халид. 2010. Ислам после коммунизма: Религия и политика в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение. 304 c
- Додхудoева Л. 2011. Абу Ханифа и его эпоха: социально-политический аспект. -Материалы по социально-политической истории Центральной Азии. VIII -нач. XVI вв. (под ред. А.Т.Турсунова). Душанбе: Принт-мастер. C. 540-541
- Додхудоева Л. 2013. От ислама к секуляризму и обратно в ислам? «Женский вопрос» в мусульманских сообществах в ХХ в. Душанбе: Дониш. 271 с
- Додхудоева Л. 2014. От ислама к секуляризму и обратно в ислам? -«Женский вопрос» на страницах прессы Таджикистана (1930-40 и 2000-10 гг.). Душанбе: Дониш. 340 с
- Кисриев Э.Ф. 2012. Арабские революции в глобализирующемся мире и «новый ислам». -Протестные движения в арабских странах, предпосылки, особенности, перспективы. Материалы круглого стола. М.: URSS. C. 104-110
- Мчедлова М.М. 2012. Современные параметры возвращения религии: ракурсы проблемы//Вестник института социологии. № 1(107). С. 11-21.
- Новейшая история исмаилитов. Преемственность и перемены в мусульманской общине (под ред. Ф. Дафтари, Л. Додхудоевой). 2013. М.: Наталис. 480 с.
- Хабермас Ю. 2008. Против «воинствующего атеизма». Постсекулярное» общество -что это такое? О новом европейском порядке//Русский журнал. 23.07. Доступ: http://www.russ.ru/pole/Protivvoinstvuyuschego-ateizma (проверено: 20.04.2012).
- Esposito J.L. 2003. Retreat from the Secular Path. -Turkish Islam and the Secular State: The Gulen Movement (ed. by M.H. Yavuz, J.L.Esposito). -N.Y. Seracuse University Press. P. xiii-xxxiii.
- Rinaldo R. 2010. Women and Piety Movements. -The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion (ed. by B.S. Turner). Ch. 26. N.Y.: Wiley-Blackwell