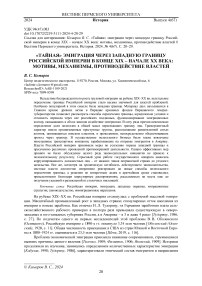«Тайная» эмиграция через западную границу Россий-ской империи в конце XIX – начале XX века: мотивы, механизмы, противодействие властей
Автор: Комаров В.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История мобильности
Статья в выпуске: 4 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
Вследствие беспрецедентного роста трудовой миграции на рубеже XIX–XX вв. нелегальное пересечение границы Российской империи стало весьма значимой для властей проблемой. Особенно популярной в этом смысле была западная граница. Материал двух находящихся в Главном архиве древних актов в Варшаве архивных фондов Варшавского генерал-губернаторства позволяет рассмотреть способы пересечения границы, юридические условия и стоимость перевода через нее российских подданных, функционирование эмиграционных контор, оказывавших в обход законов содействие эмигрантам. В силу ряда причин невозможно определение доли нелегалов в общей массе пересекавших границу лиц. Трансграничный характер имели организованные преступные группы, располагавшие разветвленной сетью агентов, занимавшихся поиском клиентов, и проводников, непосредственно обеспечивавших проход через границу. В осуществление нелегального бизнеса были также вовлечены иностранные транспортные компании, зарабатывавшие на отправке эмигрантов в Америку. Власти Российской империи принимали меры по усилению охраны западной границы и пресечению различных проявлений противоправной деятельности. Однако эффективных мер принято не было: обсуждение целого ряда законодательных инициатив не привело к положительному результату. Серьезный урон работе государственного аппарата наносила коррумпированность должностных лиц ‒ от нижних чинов пограничной стражи до уездного начальства. Все же, несмотря на хроническую негибкость действующего законодательства, местные власти достаточно оперативно реагировали на новые способы нелегального пересечения границы, а решения по конкретным делам в кратчайшие сроки становились прецедентными благодаря циркулярным распоряжениям, рассылаемым на места еще до получения указаний и разъяснений из столичных инстанций.
Российская империя, эмиграция, западные окраины, миграционные стратегии, законодательство, иммиграционные нарушения
Короткий адрес: https://sciup.org/147247299
IDR: 147247299 | УДК: 94(47).083 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-4-20-29
Текст научной статьи «Тайная» эмиграция через западную границу Россий-ской империи в конце XIX – начале XX века: мотивы, механизмы, противодействие властей
На рубеже XIX–XX вв. Российская империя столкнулась с проблемой массовой эмиграции. Масштабный промышленный рост в западных странах стимулировал отток населения из империи в поиске заработка. Как отмечал Н. Л. Тудоряну, «в Германии заработная плата сельскохозяйственного рабочего примерно в полтора раза превышала существующую в северозападных и юго-западных губерниях России, а в Америке – в 3 и даже 4 раза» [ Тудоряну , 1986, с. 27]. По подсчетам одного из первых исследователей этой проблемы В. В. Оболенского (Осинского), Российскую империю с 1890-х гг. покинуло 3,34 млн человек [ Оболенский (Осинский) , 1928, с. 11]. Общая численность приехавших в США из стран Южной и Восточной Европы в 1880–1924 гг. оценивается в 23,5 млн человек [ Шенк , 2019, с. 116].
Проблема экономической эмиграции привлекла внимание современников, стремившихся выявить причины данного явления [ Тизенко , 1909; Филиппов , 1906; Яновский , 1909]. Историки продолжили их изучение, занимались определением количественных характеристик эмиграции [ Кабузан , 1998; Тудоряну , 1986], характеризовали этнический состав эмигрантов и направления
эмиграции [ Ильина , 2009; Кабузан , 1998], правовые аспекты эмиграции [ Иванов , Котов , 2020; Матвиенко , 2011; Тарле , 1997].
Актуальность статьи обусловлена слабой изученностью массового нелегального пересечения границы, включая ее протяженный и важный отрезок в Варшавском генерал-губернаторстве. Работа осложняется передачей части фондов последнего в Польшу, произошедшей в 1920-е и 1960-е гг. Статья основана на делопроизводственных материалах канцелярии Варшавского генерал-губернатора (Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego) и помощника варшавского генерал-губернатора по полицейской части (Pomocnik Warszawskiego Generał-Gubernatora do Spraw Policyjnych), которые находятся в Главном архиве древних актов в Варшаве. Источниковая база включает различные записки, отчеты, донесения, касающиеся тайного перехода границы с конца XIX в. до Первой мировой войны.
Активная вовлеченность западных окраин в эмиграцию определялась бедностью их сельского населения, близостью иностранных портов, отсутствием серьезных естественногеографических преград и рядом исторических обстоятельств, в частности, фактором разделенных народов. Значительное влияние на направление эмиграции через западные окраины, по мнению Б. Шенка, оказала имевшаяся там развитая транспортная инфраструктура – железнодорожное и пароходное сообщение [ Шенк , 2019, с. 116].
В поздней Российской империи понятие «эмигрант» несколько отличалось от его современного значения. В делопроизводственной культуре изучаемого периода термины «эмигрант» и «эмиграция» применялись ко всем выезжавшим из страны: сезонным сельскохозяйственным и промышленным рабочим, паломникам, политическим эмигрантам, путешественникам и пр.
Формально процесс перехода границы России был относительно прост: надлежало получить заграничный паспорт, уплатив положенные сборы, после чего разрешалось любым удобным способом пересечь государственную границу. Однако на практике процесс этот был крайне бюрократизирован, а стоимость документов являлась непосильно высокой для основных групп выезжающих – крестьян и рабочих. Коррупционная составляющая могла увеличивать стоимость отъезда в два-три раза, легальное получение заграничного паспорта нередко занимало до трех месяцев, причем многие, прождав несколько недель, могли столкнуться с отказом без объяснения причин [ Rogger , 1986, p. 182‒183; Лор , 2017, с. 158; Фуллер , 2009, с. 30]. В результате большое количество эмигрантов искало способы упростить и удешевить пересечение границы.
Практика рассмотрения дел о нелегальной эмиграции выявляет несколько основных стратегий выезда за пределы империи, связанных с деятельностью эмиграционных агентств. О них известно в основном по документам, возникшим после ареста правонарушителей, тогда как подавляющему большинству эмигрантов удавалось беспрепятственно выехать. Известны случаи пересечения границы группами по 120–240 и более человек (AGAD. KGGW. 1904. Sygn. 191. K. 6; Ibid. PWGGSP. 1914. Sygn. 444. K. 5–6). По сведениям помощника варшавского генерал-губернатора по полицейской части, число задержанных составляло не более 1/10 всех нелегальных мигрантов (Ibid. KGGW. 1904. Sygn. 191. K. 6). Вряд ли можно установить количество пересекших границу нелегалов, однако даже разрозненные цифры позволяют говорить о перманентном и массовом явлении. Отдельные кейсы дают возможность реконструировать всю организационную цепочку нелегальной эмиграции из Российской империи.
Первая стратегия перехода предполагала содействие местных служащих для создания видимости законности. Согласно Уставу о паспортах, жители приграничной полосы имели право на получение особых бесплатных срочных (от 3 дней до 4 недель) легитимационных билетов ( Гольденов , 1905, с. 108–110). Проживающие за пределами 21-верстной зоны обязаны были получать паспорта на общих основаниях, включая внесение в полном объеме пошлины за оформление паспорта в размере 15 руб. Понятно, что льготой стремились воспользоваться не только жители приграничной полосы. Организаторами нелегальной эмиграции было найдено сразу два способа обойти существующие законоположения.
В 1900 г. динамика задержаний при попытке нелегальной эмиграции дала основание полагать, что эмиграционное движение в приграничных областях стало организованной системой
(AGAD. PWGGSP. 1900. Sygn. 516. K. 38). Негласный сбор сведений показал, что в приграничных губерниях действуют разветвленные сети агентов и посредников для перевода людей через границу. В частности, было установлено, что содействие нелегальной эмиграции оказывает местная гражданская администрация – гминные войты, бургомистры и другие лица, которые за плату выдавали лигитимационные билеты. Торговля ими превратилась «как бы в отдельную отрасль промышленности» (Ibid.). Законодательство не предусматривало санкций против получателей нелегальных паспортов: при задержании лиц с лигитимационными билетами земская стража была вынуждена отпускать их без производства следствия (Ibid. K. 39). Впрочем, сама пограничная стража тоже не отличалась законопослушностью. К уголовной ответственности начали привлекать должностных лиц за продажу лигитимационных билетов и незаконный пропуск за границу (Ibid. K. 42).
Агентские сети охватывали не только приграничную полосу. В 1914 г. было обнаружено, что схожим образом функционировала организация по переводу эмигрантов за границу в г. Кольно Ломжинской губернии, удаленном от льготной полосы. По агентурным сведениям, потенциальных эмигрантов, не имевших права на получение легальных эмиграционных билетов, сразу по прибытии в Кольно вносили в книгу временно проживающих и списки на оформление проездных документов (Ibid. 1914. Sygn. 444. K. 4). При этом получение лигитимацион-ного билета было невозможно без содействия местной администрации.
Согласно Уставу о паспортах, в Варшавском генерал-губернаторстве действовали особые постановления о выдаче паспортов, отличные от остальных регионов империи. Она там могла осуществляться не только властью варшавского генерал-губернатора, губернаторов и градоначальников, как это было в подавляющем большинстве регионов империи, но также уездным начальством и чинами пограничной стражи ( Гольденов , 1905, c. 82), чем не преминули воспользоваться организаторы нелегальной эмиграции. Так, в Кольно выдача документов осуществлялась с ведома начальника уезда и начальника земской стражи, за что агенты уплачивали первому 200 руб., а второму 100 руб. в месяц (AGAD. PWGGSP. 1914. Sygn. 444. K. 4). На станции Млава было достигнуто соглашение между иностранной эмиграционной конторой и женой заведующего паспортным столом ротмистра Дунина: за каждого эмигранта контора передавала Дунину 5 руб. (Ibid. 1909. Sygn. 263. K. 6).
По Уставу о паспортах, право выдачи лигитимационных билетов имели начальники округов пограничной стражи. Однако после неправомерной выдачи билета жителю Варшавы Ш. Вельту начальником III округа Отдельного корпуса пограничной стражи было издано циркулярное распоряжение об ограничении функций начальников округов в отношении оформления билетов только для офицеров пограничной стражи и членов их семей (Ibid. K. 11). Вопрос о судьбе тех, кто уже успел получить пропуск, остался открытым (Ibid. K. 13).
Вторая стратегия организации нелегальной эмиграции заключалась в сопровождении через границу проводниками и посредниками. Поскольку российская граница слабо охранялась, наиболее распространен был переход под покровом ночи. Проводники порой демонстрировали большую изобретательность. Например, названный в документах главным эмиграционным агентом в г. Коло Калишской губернии еврей Гутман специально занимался сбытом за границу птицы, для перевозки которой он использовал большие фургоны, служившие также для тайного перемещения эмигрантов (Ibid. K. 38).
Эмиграционная деятельность редко являлась индивидуальным промыслом; обычно действовали целые сети вербовщиков, агентов, посредников и проводников, отвечавших за отдельные этапы предприятия. Венчали систему эмиграционные конторы и пароходные компании, снабжавшие эмигрантов билетами на поезда и корабли, а также предоставлявшие услуги по организации нелегального перехода границы через своих агентов [ Фуллер , 2009, с. 31]. Контролируя приграничные контрольно-санитарные пункты, конторы вполне легально управляли потоками эмигрантов [ Путятова , 2009, с. 282]. Нередко, как в случае с Млавским, Прасныш-ским и Цехановским уездами, конторы располагались на пограничных станциях по другую сторону границы (например, на станции Иллово в Германии), вне сферы досягаемости русских властей (AGAD. PWGGSP. 1909. Sygn. 263. K. 6).
Отдельные звенья цепочки могли строиться на сочетании формальных (договорных) связей и неформальных предпочтений акторов. Вербовщики могли выступать посредниками агентов, работавших на эмиграционные конторы. Выбор агента зависел от личных мотивов. Например, в г. Ломжа, по данным местного жандармского управления, вербовщик Я. Янковский сам доставлял потенциальных эмигрантов различным агентам, предпочитая, однако, известного полиции К. Просинского (Ibid. 1914. Sygn. 444. K. 3).
Под видом едущих на заработки посредники направляли эмигрантов в приграничные местечки, нередко перевозя через несколько сборных пунктов в Варшавском генерал-губернаторстве (Ibid. 1900. Sygn. 516. K. 38). По прибытии их разбивали на мелкие группы для удобного перевода через границу (Ibid. K. 38). Зачастую эмигранты снабжались паспортами, оформленными двумя-тремя днями ранее (Ibid. K. 13). Последнее лишало местные власти возможности превентивно пресекать нелегальный переход границы путем высылки потенциальных эмигрантов из приграничных областей, хотя истинные мотивы вновь прибывших были хорошо известны и имелось четкое понимание отсутствия рабочих вакансий (Ibid.). Как отмечалось ломжинским губернатором, «факт этот [сосредоточения в приграничных районах. – В. К. ], ввиду отсутствия в Ломжинской губернии вообще какого-либо промысла, ясно указывал на стремление с каждым днем все более и более прибывающего народа к безопасной отлучке за границу...» (Ibid. KGGW. 1904. Sygn. 187. K. 9). Наличие паспорта позволяло эмигрантам легально находиться в приграничных местностях, не опасаясь разбирательства пограничной стражи, в ожидании удобного случая для перехода границы. Как отмечали власти, при наличии у задержанных паспортов приходилось их отпускать, после чего почти все они оказывались за границей (Ibid. PWGGSP. 1900. Sygn. 516. K. 42). Эмиграционные конторы Ф. Б. Шенк называет «шлюзами» трансконтинентальной миграции [ Шенк , 2019, с. 121].
Нередко попытка перехода через границу заканчивалась задержанием. Кроме того, существовала угроза ареста иностранными пограничниками с последующим выдворением на родину (Ibid. KGGW. 1904. Sygn. 167. K. 1). Соглашения о сотрудничестве по этому вопросу с Австро-Венгрией и Германией были заключены еще в 1881 г. Все империи считали, что пересечение границы и эмиграция, включая натурализацию, требуют разрешения страны исхода [ Лор , 2017, с. 149]. Применение этой нормы не грозило эмигрантам, которые сотрудничали с конторами, состоявшими в сговоре с иностранными чиновниками [ Лавренова , 2014, с. 170].
Говорить о какой-либо общей стратегии укрепления внешней границы Варшавского генерал-губернаторства не приходится: несмотря на единые для всего государства регламенты паспортного и таможенного контроля, вопрос о защите границы в каждом конкретном приграничном пункте решался по-своему.
По сообщениям чиновников, катастрофически большим было число нелегальных эмигрантов в Вержболово в 1898 и 1899 гг., когда одних только привлеченных к ответственности за нелегальный переход набралось 140 и 108 человек соответственно. Срочно принятые меры позволили сократить поток нелегальных эмигрантов в районе железнодорожной станции. В 1900 г. было зафиксировано всего 66 попыток нелегального перехода (AGAD. PWGGSP. 1900. Sygn. 516. K. 42). В чем именно состояли «срочные меры», к сожалению, в документах не раскрывалось.
Органы правопорядка пытались получить информацию от самих организаторов нелегальной эмиграции. Так, Плоцкое губернское жандармское управление привлекло к сбору агентурных сведений содержавшегося под стражей еврея М. Хоржельского, который был отпущен на свободу, взяв обязательство раскрыть подробности своего дела. Уже через два дня Хоржель-ский был найден мертвым в своей квартире. В переписке Плоцкого губернского жандармского управления констатировалось самоубийство «агента», но причины выяснены не были (Ibid. PWGGSP. 1909. Sygn. 263. K. 5). Впрочем, Хоржельский успел дать показания об организации эмиграционного дела в Млавском, Праснышском и Цехановском уездах, переправке эмигрантов и причастных к ней должностных лицах (Ibid. K. 6).
В 1909 г. произошла легализация эмиграционных контор, которые получали право свободной продажи эмиграционных билетов, что должно было лишить их нелегального дохода и упростить контроль за эмиграцией. Вербовка и пропаганда эмиграции оставались под запретом.
Единственно разрешенным видом деятельности стала продажа пассажирских (в делопроизводстве называвшихся также эмиграционными (Ibid. KGGW. 1909–1910. Sygn. 1306. K. 15)) билетов в пределах района регистрации конторы. Выход за границы установленной территории приводил к следствию и ликвидации конторы (Ibid. K. 11–12). Распространение ее деятельности на другие местности дозволялось при должном оформлении в них агентов и субагентов (Ibid. K. 17), причем субагенты обязывались получить разрешение местных властей (Ibid. K. 19). Возможным стало оформление выезда за пределами приграничной полосы, в частности, в Варшаве. Впрочем, все эти нововведения не меняли порядка получения заграничного паспорта и к улучшению ситуации на границе не привели.
К организации нелегальной эмиграции причастны были едва ли не все административные структуры на местах. Так, в Волковышском уезде Сувалкской губернии ей содействовал бывший нижний чин пограничной стражи В. Воробьев, занимавшийся этим еще в период службы. По свидетельству местных крестьян, пользуясь знакомствами в среде прежних сослуживцев и подкупая их, а также зная особенности охраны границы, он стал проводником в посаде Кибарты (Ibid. 1904. Sygn. 167. K. 1–2). На приграничных кордонах Курки и Цуприки Кольненского уезда Ломжинской губернии, по слухам, практически все солдаты были подкуплены агентами-евреями (Ibid. Sygn. 187. K. 1). С помощью нижних чинов пограничной стражи переправлялись эмигранты через Рачковскую заставу Августовского уезда (Ibid. Sygn. 191. K. 6). За мзду можно было перевезти без досмотра багаж [ Лавренова , 2014, c. 175]. Как отмечал в своем докладе начальник пограничного пункта Вержболово С. Н. Мясоедов, «полиция и пограничные чины пограничной стражи, не имея силы воли противиться постоянным искушениям, в конце концов поддаются соблазну, берут взятки и потворствуют эмиграционному движению» [ Фуллер , 2009, c. 32].
Криминальная вовлеченность нижних чинов оказалась столь высокой, что на их незаконный заработок вышестоящие инстанции отреагировали весьма нестандартным образом. В июне 1907 г. был издан специальный циркуляр, регулировавший правила получения взятки и дальнейшее распределение средств. Жандарму, принявшему взятку и передавшему ее вышестоящему начальству, объявлялась благодарность, а взяткодатель оставался ни с чем [ Лавренова , 2014, с. 175–176]. Если раньше со взятками пытались бороться исключительно запретительными методами, то отныне они легализовывались.
Проблема нелегального пересечения границы, однако, не ограничивалась выходом из Российской империи. Не меньшей была острота обратной миграции. Бреши, пробитые в пограничном контроле действиями компаний – организаторов трансатлантических рейсов, умело использовались революционерами, осуществлявшими ввоз нелегальной литературы и оружия [Там же, с. 170].
Возвращение в пределы России было актуально для тех, кто не планировал навсегда покидать империю. В первую очередь возвращались промышленные рабочие и уходившие на сезонные сельскохозяйственные работы в ближайшие страны. Многие из них оба раза пересекали границу нелегально, так что проводники находили себе клиентов по обе стороны границы. При обнаружении пограничной стражей посягательства на нелегальное пересечение границы неустановленными лицами предписывалось пропускать их «вглубь нашего края», дабы арест произошел непременно на российской земле [ Жаров , Парсуков , 2014, с. 17]. Лишь при соблюдении этого условия возможно было доказать совершение противоправных действий.
В первую очередь прибегать к помощи проводников были вынуждены нелегалы. По возвращении в Россию паспорт подлежал возврату в выдавшее его учреждение [Матвиенко, 2011, с. 61]. Не имевшие легальных документов задерживались приграничными властями и этапным порядком выдворялись на родину. Этот процесс мог занимать целый месяц (AGAD. KGGW. 1908–1909. Sygn. 1066. K. 21). По данным местных властей, прибегать к помощи проводников нередко приходилось также возвращающимся из-за границы крестьянам, которые потеряли билеты. Они также опасались встречи с российскими пограничными властями, выдворения на родину этапным порядком и штрафа в размере от 4 руб. 50 коп. до 13 руб. 50 коп. (Ibid. K. 11). Частыми были случаи продажи иностранцами паспортов российским подданным, намеревавшимся возвратиться в Россию (Ibid. PWGGSP. 1900. Sygn. 515. K. 18), однако подлог быстро обнаруживался и задержанные этапным порядком направлялись к местам проживания. Пересечение границы по потерянным чужим паспортам также не имело успеха, поскольку информация о пропаже передавалась во все приграничные пункты. Сказывался недостаток осведомленности эмигрантов о возможности получения проездных документов в российских консульствах за рубежом. Некоторые из них, в частности, дипломатическое представительство в германском Эйдткунене, продавали консульские свидетельства за 25–50 руб. [Лавренова, 2014, с. 175].
Нелегальный переход границы все еще оставался более выгодным. В сентябре 1903 г. в предместье города Млава были обнаружены и задержаны возвращавшиеся с заработков за рубежом трое евреев, которые показали, что прежде нелегально покинули Россию, а на обратном пути уплатили проводникам за переход 38 руб. 80 коп. Еще один задержанный показал, что уплатил 5 руб. (AGAD. KGGW. 1904–1905. Sygn. 185. K. 1–2). Для сравнения, стоимость оформления полугодового заграничного паспорта составляла 15 руб. ( Гольденов , 1905, с. 94). В следующем году при задержании нелегалов с теми же проводниками было установлено, что их услуги стоили уже 4 руб. с человека (AGAD. KGGW. 1904–1905. Sygn. 185. K. 10).
Проблема могла быть решена изменением в таможенном и паспортном законодательстве порядка идентификации лиц на границе. Однако при пересечении границы продолжали фиксироваться только данные паспорта, а не приметы его владельца (Ibid. 1908–1909. Sygn. 1066. K. 4‒5). В 1909 г. власти приграничных губерний вступили в переписку с варшавским генерал-губернатором, предложив скорректировать существующий режим. Как отмечал калишский губернатор, правила пересечения границы «устарели и не отвечают современным условиям пограничных сношений» (Ibid. K. 7). Петроковский губернатор предлагал ставить специальный штемпель о пересечении границы в паспортные (лигитимационные) книжки, где всегда описывались приметы владельца (Ibid. K. 12). Ломжинский губернатор указывал, что отправка к месту приписки этапным порядком во вверенной ему губернии не практикуется, так как правом получения льготных билетов могут пользоваться только жители 21-верстной полосы, в большинстве своем известные пограничной страже, способной самостоятельно установить их личности (Ibid. K. 9). Начальник Волковышского уезда Сувалкской губернии предлагал и вовсе допустить возвращение из-за границы с любыми документами, удостоверяющими личность, сделав исключение лишь для тех, кто пересек границу в пунктах, где нет жандармских отделений, а следовательно, отсутствуют сведения о разыскиваемых лицах (Ibid. K. 17). Возвращающихся после нелегальной отлучки предлагалось подвергать наказанию уже на месте их постоянного проживания после самостоятельного прибытия туда (Ibid.). Сувалкский губернатор рекомендовал сохранить существующий порядок, изменив расписание этапных конвоев, чтобы сократить время на высылку (Ibid. K. 22). Предполагалось, что отказ от жестких ограничений лишит доходов агентов эмиграционных контор, вымогающих деньги у попавших в тяжелое положение людей (Ibid. K. 17). Решения, однако, принято не было.
Едва ли можно говорить о единстве и последовательности в подходах местных администраций. В частности, ломжинский губернатор С. Н. Корф в 1907 г. полагал, что выдворение из приграничных областей этапным порядком является «способом высылки…, единственно гарантирующим действительное водворение эмигрантов на места их приписки» (Ibid. 1904. Sygn. 187. K. 6). Тем самым исключается «возможность немедленного… возвращения их к границе для новых попыток к ее переходу…, такие лица, затратившие денежные средства на первоначальный проезд до границы и возвращенные затем долгим этапным путем на родину, утрачивают уже расположение к новым подобного рода попыткам, подрывая в то же время наглядным примером своей неудачи в окружающей их среде веру в полную безнаказанность и удобоисполнимость покушений на тайный переход границы» (Ibid.).
Инициативу пыталось проявить и местное население. Сувалкскому губернатору поступило прошение членов комитета еврейского колонизационного общества о предоставлении им возможности удостоверения евреев, возвращающихся из-за границы без паспортов. Ходатайство было отвергнуто по причине недопустимости передачи полицейско-административных полномочий частным лицам или общественным организациям (Ibid. 1908–1909. Sygn. 1066. K. 20).
В условиях сохранения старых правил и отсутствия единства среди чиновничества нелегальный перевод оставался стабильным и весьма прибыльным занятием. Несомненно, власти пытались бороться с агентами, конторами и проводниками. За агентами-нарушителями устанавливался полицейский надзор, поводом к чему могли также стать их политическая неблагонадежность и прежние проступки, например, причастность к контрабанде (Ibid. 1904‒1905. Sygn. 199. K. 9). Уличенные в противоправной деятельности подвергались штрафам и удалению из пограничной полосы.
Впрочем, такая высылка была не вполне эффективной. В феврале 1914 г. закончилось рассмотрение дела об организованной группе в г. Ломжа, занимавшейся как вербовкой, так и переводом российских подданных за границу. Один из обвиняемых – К. Просинский ‒ прежде уже подвергался высылке из Ломжинской губернии, однако после отбытия наказания вернулся к старому занятию (Ibid. PWGGSP. 1914. Sygn. 444. K. 3). Уголовного преследования за содействие нелегальной эмиграции законом не предусматривалось, наиболее суровым наказанием являлась высылка из приграничных областей, причем даже за рецидив она ограничивалась 2– 3 годами (Ibid.). Высказывались предложения об ужесточении наказаний, в частности, плоцкий губернатор рекомендовал высылать за повторное деяние во внутренние губернии, так как высылка из приграничной полосы «не прекратила бы преступной... деятельности, а только несколько осложнила бы ее» (Ibid. KGGW. 1904–1905. Sygn. 185. K. 2).
Практика подтверждала правоту губернатора. В фонде помощника варшавского генерал-губернатора хранятся десятки дел о повторной высылке за организацию нелегальной эмиграции. Показательно дело о высылке В. Вышегорского в феврале 1904 г. варшавским генерал-губернатором было принято решение об удалении его за пределы приграничной полосы и установлении полицейского надзора (Ibid. K. 7). Рекомендация плоцкого губернатора по высылке во внутренние губернии поддержки не получила, и уже в июне 1904 г. Вышегорский был вновь задержан (Ibid. K. 10–11). Только после нового правонарушения состоялось решение о его высылке из Привислинского края (Ibid. K. 11). Впрочем, исполнено оно не было. В 1905 г. подала прошение жена Вышегорского, заявившая о недостоверности обвинений, основанных на показаниях конкурентов мужа. Наказание было отменено министром внутренних дел «за отсутствием достаточных оснований к обвинению» (Ibid. K. 14).
Делопроизводственные документы Варшавского генерал-губернаторства зафиксировали и такую практику, как освобождение от ответственности за противоправные действия.
Согласно Уставу о паспортах, самовольная отлучка за границу и беспаспортное пребывание там каралось штрафом в 15 руб. за каждое просроченное полугодие ( Гольденов , 1905, с. 97). Нередко штрафы достигали нескольких сотен рублей. Однако, подав прошение на имя генерал-губернатора, можно было уменьшить размер штрафа или вовсе избежать его уплаты. Каждое такое дело рассматривалось индивидуально, на просителя составлялась справка, включавшая пункты о политической благонадежности, семейном статусе и материальном положении.
Так, в январе 1904 г. прошение о снижении штрафов подал житель Липновского уезда Ф. Павловский. Штраф в размере 130 руб. 50 коп. был выписан ему еще в 1899 г. Из этой суммы Павловский выплатил только 20 руб. В предоставленной плоцким губернатором справке указывалось, что Павловскому 30 лет, под судом, следствием и надзором он не состоял, имеет сына, занимается хлебопашеством, беден (AGAD. KGGW. 1904. Sygn. 141. K. 40).
Тогда же прошение было подано другим жителем Липновского уезда А. Сливинским, наказанным в 1898 г. штрафом в размере 159 руб. 50 коп., из которых выплатил только 49 руб. 50 коп. Ему 31 год, под судом, следствием и надзором не состоял, долгов не имеет, занимается хлебопашеством на собственной земле, однако ее качество плохое, к тому же в минувшем году случился неурожай (Ibid. K. 41).
В январе 1904 г. было подано прошение жителем Сувалкского уезда А. Муранко об освобождении от уплаты штрафа в 288 руб., наложенного в 1903 г. за пребывание за границей в течение восьми с половиной лет. Просителю 34 года, холост, имуществом не владеет, под судом и следствием не состоял, поведения хорошего, проживает при своем отце, за границу отлучался на заработки. Была признана возможность работы просителя для уплаты штрафа, поскольку
Муранко имел достаточно зажиточного отца, который его содержал, и являлся одиноким человеком (Ibid. K. 68). Из перечисленных прошений лишь это не было удовлетворено (Ibid), тогда как во всех остальных случаях просителей освободили от штрафов.
Таким образом, освобождение от уплаты штрафа допускалось с учетом как персональных возможностей просителя, так и финансового благополучия его ближайших родственников. Штраф мог накладываться на родственников нарушителя. Не стоит считать освобождение от уплаты избранной властями стратегией – какой-либо масштабной амнистии не проводилось.
Итак, нелегальная эмиграция в поздней Российской империи носила массовый характер, и ежедневные аресты десятков и даже сотен правонарушителей не могли остановить их нескончаемый поток. Можно назвать несколько причин столь широкого распространения данного явления. Во-первых, это сложность и высокая стоимость получения легальных проездных документов для жителей удаленных от границы регионов. Практика выдачи льготных билетов приграничным жителям порождала стремление сэкономить и ускорить процесс. Во-вторых, приносила плоды исключительная активность агентов эмиграционных контор, вербовавших клиентов обещаниями больших заработков за границей. Созданная агентами разветвленная миграционная инфраструктура также способствовала предпочтению нелегального выхода из империи, освобождая эмигранта от необходимости самостоятельно решать все возникавшие проблемы. В-третьих, немаловажное значение имели слабая охрана границы и мздоимство государственных служащих разных уровней – от нижних чинов пограничной стражи до начальников уездов, более заинтересованных в соблюдении собственной выгоды, нежели в обеспечении правопорядка.
Конечно, власти пытались бороться с нелегальной эмиграцией. На регулярной основе с профильными министерствами обсуждалась подготовка соответствующего законодательства, велась переписка между генерал-губернатором и губернаторами о выработке региональной стратегии, проводились следственные действия, осуществлялось негласное наблюдение за агентами и проводниками.
Регулирование режима пересечения государственной границы не ограничивалось разработкой нормативных актов; это была живая, постоянно менявшаяся практика, которая зачастую шла вразрез с правовыми нормами и намечала пути дальнейшей трансформации законодательства. Чиновники на местах ориентировались на прецеденты решения конкретных дел, не дожидаясь разъяснений и распоряжений из столицы.
Список сокращений
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
PWGGSP – Pomocnik Warszawskiego Generał-Gubernatora do Spraw Policyjnych.
KGGW – Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego.
Список литературы «Тайная» эмиграция через западную границу Россий-ской империи в конце XIX – начале XX века: мотивы, механизмы, противодействие властей
- Жаров С.Н., Парсуков В.А. Организация сторожевой службы отдельным корпусом пограничной стражи Российской империи в конце XIX ‒ начале XX века // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2014. № 20(349). Экономика. Вып. 40. С. 13‒22.
- Иванов А.А., Котов А.Э. Экономическое значение и попытки регулирования зарубежной трудо-вой миграции на западных окраинах Российской империи (конец XIX ‒ начало XX века) // Но-вейшая история России. 2020. Т. 10, № 1. С. 70–88.
- Ильина О.А. Еврейская эмиграция из Российской империи в Палестину, 1880‒1904 гг.: идеология, практика, мифология: дис. … канд. ист. наук. М., 2009. 217 с.
- Кабузан В.М. Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII ‒ начале XX века. М.: Наука, 1998. 268 с.
- Лавренова А.М. Жандармский надзор в Вержболово накануне Первой мировой войны // Транс-портные коммуникации Российской империи в годы Первой мировой войны / сост. А.С. Сенин, Л.Д. Шаповалова. М.; СПб.: Нестор-История, 2014. С. 168–181.
- Лор Э. Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу. М.: Новое литературное обо-зрение, 2017. 336 с.
- Матвиенко Н.О. Нормативные основы пересечения границы русскими подданными // Вестник Перм. ун-та. Юридические науки. 2011. № 1 (11). С. 58–62.
- Оболенский (Осинский) В.В. Международные и межконтинентальные миграции в дореволюционной России и СССР. М.: 3-я тип. Транспечати, 1928. 136 с.
- Тарле Г.Я. Эмиграционное законодательство России до и после 1917 года (анализ источников) // Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX вв.: сб. ст. М.: ИРИ РАН, 1997. С. 31–62.
- Путятова Э.Г. Роль пароходных компаний в транспортировке российских эмигрантов в Южную Америку (конец XIX ‒ начало XX в. // Вестник С.-Петерб. ун-та. Политология. Международные отношения. 2009. Вып. 2. С. 281–288.
- Тизенко П.Д. Эмиграционный вопрос в России 1820–1910 гг. Либава: Либав. вестн., 1909. 53 с.
- Тудоряну Н.Л. Очерки российской трудовой эмиграции периода империализма (в Германию, скандинавские страны и США). Кишинев: Штиинца, 1986. 309 с.
- Филиппов Ю.Д. Эмиграция. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1906. 210 с.
- Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 376 с.
- Шенк Ф.Б. Шлюзы трансконтинентальной миграции как места модерности // Вестник Перм. ун-та. История. 2019. Вып. 1 (44). С. 114–128.
- Яновский С.Я. Русское законодательство и эмиграция // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 4. С. 31–66.
- Rogger H. Jewish Policies and the Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley: University of California Press, 1986. viii, 289 p.