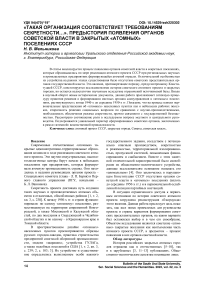"Такая организация соответствует требованиям секретности...". Предыстория появления органов советской власти в закрытых "атомных" поселениях СССР
Автор: Мельникова Наталья Викторовна
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.22, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс появления органов советской власти в секретных поселениях, которые образовывались по мере реализации атомного проекта СССР при региональных научных и промышленных предприятиях формирующейся атомной отрасли. Отличительной особенностью их устройства на ранних этапах существования было отсутствие советских представительных органов государственной власти. Это явление, противоречащее порядку, предусмотренному Конституцией СССР, констатируется исследователями истории советского атомного проекта и закрытых городов, но остается недостаточно изученным вследствие ограничений источниковой базы. Вводя в научный оборот новые исторические документы, данная работа прослеживает затяжную процедуру принятия решения о формировании местных органов самоуправления в «атомных» поселениях, растянувшуюся с конца 1940-х до середины 1950-х гг. Показано, что на процесс влияли первоначальные представления об «атомных» населенных пунктах как о небольших рабочих поселках, вторичность решения социальных вопросов по сравнению с научно-производственными, необходимость обеспечения режима секретности, прочно связанного с государственной безопасностью. Рассмотрено соотношение роли в исследуемом вопросе местного и центрального руководства. Подчеркивается уникальный характер сформированных советских органов, заключенных в рамки «атомной» ведомственной принадлежности.
Атомный проект ссср, закрытые города, советы, советская власть
Короткий адрес: https://sciup.org/147238133
IDR: 147238133 | УДК: 94(470)“19” | DOI: 10.14529/ssh220302
Текст научной статьи "Такая организация соответствует требованиям секретности...". Предыстория появления органов советской власти в закрытых "атомных" поселениях СССР
Современные отечественные «атомные» закрытые административно-территориальные образования возникли в ходе реализации советского атомного проекта. Эти научно-индустриальные, высокотехнологичные центры берут начало в небольших поселениях при предприятиях, которые формировали атомную промышленность страны. Они находились в ведении руководящих органов проекта -Специального комитета (глава - Л. П. Берия) и Первого главного управления (ПГУ, начальник -Б. Л. Ванников).
Секретность проекта диктовала путь создания таких научных и производственных атомных объектов в отдаленных, обособленных районах [1, т. 2, кн. 3, с. 238]. К началу 1950-х гг. в стране функционировали: по одному «атомному» поселению, разместившемуся на территории современной Новгородской, а также Московской и Калужской областей, по два поселения в Свердловской и Челябинской областях и по одному - в Красноярском крае и Томской области.
В пространственном дизайне «атомных» населенных пунктов просматриваются образцы русских городов-заводов, практика строительства предприятий советской оборонной промышленности, модели «шарашек», устройства ГУЛАГа, а также подобных поселений в США [1, т. 2, кн. 3, с. 239; 2, с. 103; 3]. Их устройство и существование определялись выполнением особо важного государственного задания, соседством с потенциально опасным производством, секретностью и режимностью, территориальной изолированностью, пропускной системой, повышенным финансированием и снабжением. Вместе с этим заметной отличительной характеристикой было своеобразие их общественно-политического устройства, дающее исследователям основание называть его «аномальным» [4]. Оно заключалось в нарушающем Конституцию СССР отсутствии органов советской власти в «атомных» поселениях (вплоть до середины 1950-х гг.) и в первоначальной ослабленной позиции партийных инстанций.
В ситуации ограниченного доступа к первичным источникам по истории советского атомного проекта затруднена реконструкция «бэкграунда» этого явления. Данная работа преследует цель показать, как шел поиск приемлемых для руководства проекта и страны вариантов формирования советских представительных органов, на каком варианте был остановлен выбор и в чем его своеобразие. Объектом исследования являются советские «атомные» закрытые поселения как неотъемлемая часть атомного проекта СССР, а предметом - процесс появления в них органов советской власти.
Обзор литературы
История российских закрытых атомных городов отражена как в отечественных [5–10], так и в зарубежных [3, 11–13] публикациях. Общественно-политическим аспектам посвящено лишь несколько работ [4, 14–16]. В одних исследованиях просто констатируется появление административных (советских) органов в середине 1950-х гг. В других проблема преодоления политической «аномальности» и вхождения в «нормальное советское» русло подается с локального яруса в дискурсе инициативы местного директорского корпуса. Привлечение новых источников и рассмотрение этого вопроса с общепроектного уровня способно уточнить и систематизировать знания о советском атомном проекте и шире – о советской системе.
Методы исследования
В работе применены как универсальные научные методы (анализ, синтез, обобщение), так и специальные – проблемно-хронологический и историко-сравнительный методы, позволяющие проследить проблему в динамике, хронологической последовательности и обнаружить общее и особенное в изучаемых явлениях и процессах.
Источниками исторической реконструкции послужили делопроизводственные документы, как опубликованные, так и выявленные автором в относительно недавно образованном фонде Специального комитета при Совете Министров СССР в Государственном архиве Российской Федерации и впервые вводимые в научный оборот.
Результаты и дискуссия
На ранних стадиях существования «атомных» поселений (1946–1948 гг.) вопросы организации их повседневной жизни решались административно-хозяйственными и жилищно-коммунальными отделами местных строительных управлений, управлениями бытового обслуживания. Затем административное руководство службами жизнеобеспечения градообразующих объектов и строящихся населенных пунктов сосредоточилось в руках директоров предприятий. К концу 1940-х гг. под их началом на одних объектах (как комбинаты № 8171 и 8132) работали созданные местными приказами административные (административнораспорядительные) и жилищно-коммунальные отделы, начальники которых находились в прямом подчинении директоров атомных промышленных объектов. Между этими отделами, к которым следует добавить политотделы, и был распределен круг вопросов, обычно решавшихся органами местной власти. На других объектах (как поселок при КБ-113) не было даже административного отдела [1, т. 2, кн. 7, c. 413].
Не легитимированные правительственными актами административные отделы (там, где они были) не могли в полной мере осуществлять все функции городских Советов (оформление выплат пенсий, государственных пособий и многое другое). Эти затруднения, а также сам факт того, что решение повседневных проблем жизнедеятельности поселков отвлекало внимание руководителей градообразующих объектов от их прямых обязанностей, подвигало местную дирекцию обращаться в Первое главное управление. Просьбы, относящиеся к 1947–1949 гг., в целом сводились к двум вариантам: либо организовать городской Совет депутатов трудящихся (с подчинением его Верховному Совету РСФСР, Совету Министров РСФСР или исполнительному комитету ближайшего областного города, а в случае поселка при КБ-11 – Московскому горсовету [17, с. 150–151]), либо хотя бы непосредственно подчинить местный административный отдел облисполкому.
Руководство КБ-11 подробнее других проработало этот вопрос. Кроме предложений, подобных вышеизложенным, оно разработало проект положения «О гражданском управлении на территории объекта» [17, c. 155–159]. Предлагалось создать «гражданское управление» – орган государственной власти в непосредственном подчинении Совета Министров РСФСР, состоящий из начальника, его двух заместителей, секретаря и начальников отделов – благоустройства и бытового обслуживания, социального обеспечения, финансового и пр. Функционал этого органа приравнивался к имеющимся у городских Советов. Этим его советский характер и ограничивался. Управление должно было «в повседневной деятельности» подчиняться начальнику объекта. Руководящие должности «гражданского управления» задумывались не как выборные, а как назначаемые начальником КБ-11 (только глава «гражданского управления» утверждался еще Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР).
Просьбы и предложения атомных объектов периода 1947–1949 гг. об административных советских органах не находили разрешения. Причина видится исследователям в том, что «…в планы действовавшей в стране политической системы не входило изменение порядка административного управления, сложившегося на закрытых объектах» [5, с. 306]. Считается, что только смена власти в стране после 1953 г. «привела к завершению процесса превращения объекта-предприятия» в советский город.
Подтверждение этой мысли можно найти в одном из обличительных писем от 11 июля 1953 г., написанных после ареста Л. П. Берии секретарем Специального комитета генералом В. А. Махневым председателю Совета Министров СССР Г. М. Маленкову. «Следует поставить также вопрос, – настаивал Махнев, – о необходимости создания местных советских органов (их нет в городке КБ11, в городах комбинатов № 817 и № 813). Берия всячески оттягивал рассмотрение и решение этого вопроса» [18, с. 86]. С большой долей уверенности можно предположить, что данное письмо написано в стремлении дистанцироваться от бывшего руководителя (как это делали тогда многие, в том числе, соратники Л. П. Берии по атомному проекту). Однако как обстояло дело в действительности?
Комплект документов, выявленных в Государственном архиве РФ, свидетельствует, что вопрос о необходимости создания местных советских органов власти стоял на повестке Специального комитета как минимум с 1949 г. Именно в этом году был испытан первый советский ядер-ный заряд, и, возможно, это позволяло обратиться к насущной проблеме административного устройства «атомных» поселений. К этому времени стала очевидна ошибочность первоначальных представлений о них как о небольших заводских поселках [1, т. 2, кн. 2, c. 206], масштабы которых они уже «переросли». Секретным постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1949 г. поручалось первому заместителю начальника ПГУ А. П. Заве-нягину, заместителям начальника ПГУ Е. П. Слав-скому и П. Я. Мешику в месячный срок разработать и представить предложения об организации административных органов в поселке при комбинате № 817 [19]. Учитывая, что постановления Совета Министров СССР лишь формально оформляли решения Спецкомитета, ясно, что инициатива принадлежала последнему. 6 апреля 1950 г. вышло аналогичное постановление, касающееся комбината № 813 [20]. Но спустя год эти распоряжения так и остались на бумаге. Успешный взрыв первой советской атомной бомбы не снимал остроты главной задачи атомного проекта – создания ядерного щита. В том же 1950 г., например, «на повестке дня» стояли новые строительства – завода по регенерации отработанного ядерного топлива, комбината № 8154, горно-обогатительного предприятия по добыче и переработке урановых руд («рудоуправление № 10») и других объектов, введение в строй новых реакторов, летные испытания новых изделий типа РДС-1, развертывание работ по использованию атомной энергии для мирных целей.
Жители «атомных» поселений тем временем продолжали испытывать сложности, связанные с отсутствием «органов власти, имеющих законную силу». Они обращались с жалобами в вышестоящие партийные и советские органы, вплоть до ЦК КПСС. Об этом, в частности, весной 1951 г. докладывал Л. П. Берии уполномоченный Совета Министров СССР по заводу № 813 генерал-лейтенант Г. Л. Булкин. Резолюция на докладной, наложенная лично Л. П. Берией и адресованная председателю Совета Министров РСФСР Б. Н. Черноусову, а также А. П. Завенягину и П. Я. Мешику, гласила: «прошу ускорить представление предложений по организации административных органов» [21].
В феврале следующего 1952 г. поименованные «ответственные товарищи» наконец представили Л. П. Берии проект постановления «Об организации административных органов в поселках объектов Главгорстроя СССР5» [22] с подробным сопроводительным письмом [23]. Постановление касалось населенных пунктов при комбинатах № 817, 813, 815, 8166, КБ-11 и заводе № 4187. На территории жилых поселков этих объектов предполагалась создание административных районов и райисполкомов. Поскольку поселок при комбинате № 817 уже имел условный адрес Челябинск-40 (в органах связи г. Челябинска была оформлена специальная группа работников, которая отбирала всю корреспонденцию, идущую по этому адресу, и переправляла на объект), а выборы в Верховный Совет СССР проводились также от условного избирательного участка того же областного города, предполагалось присвоить поселку очередное условное наименование – «Пролетарский район г. Челябинска». По аналогии, жилому поселку при комбинате № 813 присваивалось наименование «Фрунзенский район г. Свердловска», при заводе № 418 – «Красногвардейский район г. Свердловска», при комбинате № 815 – «Первомайский район г. Красноярска», при комбинате № 816 – «Чапаевский район г. Томска» [24].
Поселок Сарова, где располагалось КБ-11, ранее по условиям секретности изъятый из административного подчинения Совета Министров Мордовской АССР, к моменту составления указанного документа не находился ни в чьем подчинении. Его жители, несмотря на расстояние в несколько сотен километров, имели московскую прописку (129 отделения милиции г. Москвы). Такое положение дел сложилось потому, что КБ-11 до 1951 г. являлось филиалом Лаборатории измерительных приборов АН СССР (расположенной в Москве), и адрес, таким образом, соответствовал задачам конспирации. Все остальные «привязки» также соотносились с Москвой: политотдел объекта подчинялся Московскому горкому, в выборах граждане участвовали через условный Московский избирательный округ и для личной переписки существовал адрес «г. Москва, почтовый ящик № 49». Исходя из этих реалий авторы проекта предполагали дать секретному населенному пункту наименование «Загородный район г. Москвы».
Районов с такими названиями в указанных городах естественно не было. Полагалось, что предлагаемая организация будет отлично соответствовать требованиям секретности. В документах увольняемых, уезжающих в отпуск или командировку не будет фигурировать действительное место дислокации «атомного» объекта, а любой посторон-
-
5 Главгорстрой СССР – условное наименование Первого главного управления.
-
6 Ныне – Сибирский химический комбинат, г. Северск.
-
7 Ныне – комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной.
ний, разыскивающий его в городе по условному наименованию несуществующего района, «неизбежно попадет в поле зрения».
Планируемые «атомные» райисполкомы приравнивались к райисполкомам городов республиканского (РСФСР) подчинения, а ставки работников – к ставкам работников райисполкомов Москвы. Для руководителей предполагалось выделить двенадцать персональных окладов (в том числе, шесть по 3 тыс. рублей), и на всех работников распространить материальные льготы, действующие на «атомных» объектах. Комплектование аппарата должно было осуществляться «в установленном порядке», но по согласованию с Первым главным управлением.
Проект постановления прошел внутреннюю «экспертизу», докладную о которой представил Л. П. Берии генерал-лейтенант Н. С. Сазыкин в марте 1952 г. [25]. Он занимал должность помощника Берии как заместителя Председателя Совета Министров СССР. В секретариате Специального комитета Сазыкин возглавлял группу по руководству уполномоченными Совета Министров СССР, которые назначались при важнейших институтах, специальных стройках и предприятиях, выполнявших работы по атомному проекту [1, т. 2, кн. 1, c. 469]. Уполномоченные (генералы и офицеры – как правило, полковники – МВД и МГБ СССР) утверждались Л. П. Берией и были подчинены ему лично. В условиях ограниченной компетенции партии в атомном проекте уполномоченные Совета Министров СССР на местах собирали информацию, обычно поставлявшуюся «наверх» партаппаратом. Таким образом, это была надведомственная надзорная «вертикаль» [26, c. 133].
В докладной Н. С. Сазыкина создание органов советской власти в закрытых атомных поселениях признается «правильным и действительно необходимым». Однако более целесообразным видится их подчинение не городским Советам ближайших областных городов или Москвы (как в случае поселка при КБ-11), а Совету Министров РСФСР. В нем предлагается организовать «специальную группу или отдел с подчинением лично т. Черноусову Б. Н. или одному из его заместителей». Второй блок замечаний касается поддержания режима секретности. Высказываются следующие нарекания: не разработано, как будет осуществляться руководство вновь созданными органами советской власти; не указан порядок переписки с внешними учреждениями и организациями; нет согласования с МГБ. В заключение генерал Н. С. Сазы-кин рекомендует «принять предложение тт. Черноусова, Завенягина и Мешик, с учетом перечисленных выше замечаний».
Поиск приемлемого варианта решения был продолжен. Для этого понадобилась дополнительная информация, которая поступила в адрес Л. П. Берии через месяц после докладной Н. С. Сазыкина, в ап- реле 1952 г. Она сообщала об органах советской власти не только на тех шести населенных пунктах, которые упомянуты в рассмотренном выше проекте постановления, но и на других «атомных» объектах. Из справки, подписанной П. Я. Мешиком [1, т. 2, кн. 7, c. 413], следует, что административные отделы функционировали только в двух закрытых поселениях Первого главного управления, жители других объектов (как, например, при заводе № 418) обращались в Советы ближайших населенных пунктов. В справке не упомянуто, что на комбинате № 816 действовал административный совет, организованный на общественных началах в марте 1951 г. (позже был образован и административнораспорядительный отдел при дирекции предприятия). Не значится в справке и административный отдел, созданный на комбинате № 815 в декабре 1951 г. [10, c. 293, 295]. На других перечисленных в справке объектах, таких как завод № 128 (г. Электросталь) или завод № 5449 (г. Глазов), трудящиеся «обслуживались» в городских Советах, то есть не нуждались в специальной организации административных органов. Подобные сведения были направлены Л. П. Берии и начальником Второго главного управления при Совете Министров СССР П. Я. Антроповым, руководившим уранодобывающими предприятиями [27]. В его справке перечислены 22 подведомственных объекта и органы советской власти, в которые обращались работающие в них люди.
Одновременно с внутренней проработкой вопроса об организации административных органов секретных объектов в формирующемся атомном ведомстве в него поступали и внешние запросы, побуждающие к дальнейшим действиям. В частности, в ноябре 1952 г. министр финансов СССР А. Г. Зверев обратился к Л. П. Берии с просьбой «…ускорить представление предложения об организации административных и финансовых органов на закрытых объектах Главгорстроя СССР» [28]. Министра волновало не только отсутствие возможности для «…населения рабочих поселков участвовать в управлении городским хозяйством и культурном строительстве», но, главным образом, проблемы в проведении налоговой работы. Среди таковых перечислены: отсутствие контроля за «…своевременным взносом в бюджет налоговых платежей с рабочих и служащих», невозможность «…полного обложения доходов частного сектора», «…затруднение в финансировании расходов, производимых в обычных условиях за счет местных бюджетов» [29].
Наиболее нуждающимися в формировании органов советской власти представлялись, видимо, как и раньше, шесть населенных пунктов из первого проекта постановления об организации административных органов в поселках ПГУ (при комбина- тах № 817, 813, 815, 816, КБ-11 и заводе № 418). Решения о создании наиболее ранних из этих предприятий появились уже в 1945 г., и к концу 1952 г. численность живших при заводских поселках людей существенно выросла. Об этом свидетельствует справка о количестве их населения на декабрь 1952 г. и его планируемой численности в 1953 г. [30]. В целом в указанных населенных пунктах проживало около 95 тыс. человек. Наиболее многочисленным был поселок при комбинате № 817 (31,2 тыс. человек), наименее – поселок при строящемся комбинате № 815 (2,9 тыс. человек). К концу 1953 г. предполагался общий прирост численности «атомного» населения в этих поселках почти в 1,5 раза. Справка показывала, что по количеству жителей большинство «атомных» населенных пунктов уже соответствовали статусу города.
Не обнаружены документы, отражающие, как шло (и шло ли вообще) обсуждение вопроса создания в этих поселениях органов советской власти до лета 1953 г., когда в атомном ведомстве произошли серьезные изменения. 26 июня 1953 г. Л. П. Берия был арестован, Специальный комитет ликвидирован, а на базе Первого главного управления создано Министерство среднего машиностроения СССР во главе с В. А. Малышевым. Спустя менее двух недель, 7 июля 1953 г., по распоряжению нового министра рассмотренный выше проект постановления был передан ему [31].
В следующем году был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании некоторых населенных пунктов в города областного подчинения и рабочие поселки» (17 марта 1954 г.) [32]. Первые атомные населенные пункты обрели статус городов областного подчинения и названия, под которыми большинство известны сегодня, но остававшиеся секретными до начала 1990-х гг.: при комбинате № 813 – Ново-Уральск, № 815 – Железногорск, № 816 – Северск, № 817 – Озерск, при заводе № 418 – Лесной, при КБ-11 – Кремлев. Еще три населенных пункта, не обсуждаемых ранее (видимо, из-за недостаточной численности постоянного населения), получили статус рабочих поселков и названия: при Лаборатории «М» – Дубна, при заводе № 93310 – Трехгорный, при Рудоуправлении № 10 – Лермонтов. Во всех поселениях образовывались Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты. Наконец, первые «атомные» населенные пункты получили органы государственной власти, соответствующие Конституции, прошли первые выборы в местные городские Советы (хотя Указ и поступил на места через месяц или два после подписания). В последующем процесс был распространен на другие «атомные» поселения (Снежинск, Обнинск и др.) При этом сохранялась и специфика атомных закрытых городов, заклю- чавшаяся в том, что городским властям (горсовету и его исполнительному комитету) отводилась вспомогательная роль, по сравнению с властью и возможностями дирекции градообразующего предприятия. Это проявлялось и в том, что в ведении последней долгое время еще оставались такие вопросы жизнедеятельности города, как городское строительство, содержание жилого фонда, газо- и теплоснабжение, связь, торговля, общественное питание, здравоохранение и пр. [5, c. 307–309; 9, c. 367].
Выводы
Таким образом, в появлении органов советской власти в закрытых «атомных» поселениях очевидна не только инициатива регионального «атомного» директората (естественная в своем поиске оптимизации руководства объектами). Этот вопрос тщательно прорабатывался в формирующемся атомном ведомстве. Да, процесс шел не так быстро, как, возможно, хотелось бы на местах. Известно, что все социальное отступало на второй план, по сравнению с главной задачей атомного проекта. Тем не менее руководство Специального комитета и Первого главного управления вряд ли можно обвинять в злонамерении «…узурпировать права трудящихся указанных объектов отсутствием советской власти» [18, c. 86]. Будучи государственно мыслящими управленцами, они искали подходящий вариант для нового, не имевшего еще аналогов, типа секретных поселений. Стояла непростая задача обеспечить баланс между организацией местных конституционных органов власти (отрицание необходимости которых не прослеживается по документам) и соблюдением режима секретности, связываемого с государственной безопасностью. Об этом свидетельствует и срок доработки проекта уже в Министерстве среднего машиностроения: она заняла еще восемь месяцев.
В итоге, для «атомных» населенных пунктов был выбран более простой и естественный вариант по сравнению с ранними предложениями «снизу» и первым проектом от 1952 г. Поселения не стали формальными районами столичного или областных городов, а сами обрели статус города (в том числе со временем и те, которые по Указу от 17 марта 1954 г. значились как рабочие поселки). Их органы местного самоуправления были подчинены не Совету Министров СССР/РСФСР, а соответствующим областным и краевым Советам депутатов трудящихся, став их составной частью. Хотя наличествовала и формальность этого встраивания. В 1955 г. в Министерстве среднего машиностроения (в его Главном управлении капитального строительства) был образован отдел городских и поселковых Советов [10, c. 300]. Через него шло планирование развития городского хозяйства атомных закрытых городов, его материально-технического снабжения, комплектования служб бытового обслуживания и учреждений культуры кадрами. Таким образом, оформился уникальный гибридный вариант, не ре- гулируемый публичными правовыми нормами: советские представительные органы государственной власти и местного управления регламентировались ведомственной принадлежностью, что являлось одним из проявлений сильной позиции атомного Главка как «главного звена» советской экономики [33] и геополитики.
Список литературы "Такая организация соответствует требованиям секретности...". Предыстория появления органов советской власти в закрытых "атомных" поселениях СССР
- Атомный проект СССР: документы и материалы: в 3 т. / под общ. ред. Л. Д. Рябева. - М. ; Саров, 1998-2010.
- Алексеев, В. В. Общественный потенциал истории / В. В. Алексеев. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. - 643 с.
- Brown, К. The closed nuclear city and big brother: made in America / K. Brown // Ab Imperio. -2011. - № 2. - С. 159-187.
- Хандожко, Р. И. Территория политической аномалии: партийная жизнь в советском атомном городе 1950-1960-х годов / Р. И. Хандожко // Шаги/Steps. - 2016. - Т. 2, № 1. - С. 167-199.
- Артемов, Е. Т. Укрощение урана / Е. Т. Артемов, А. Э. Бедель. - Екатеринбург: СВ-96, 1999. - 351 с.
- Власова, Е. Ю. Создание и становление первого закрытого научно-технического центра советского атомного проекта: дис. ... канд. ист. наук / Е. Ю. Власова. - Н. Новгород, 2011. - 222 с.
- Кузнецов, В. Н. Ядерный оружейный комплекс Урала: создание и развитие / В. Н. Кузнецов. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 2021. - 536 с.
- Мельникова, Н. В. Феномен закрытого атомного города / Н. В. Мельникова. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 2006. - 176 с.
- Новоселов, В. Н. Тайны «сороковки» / В. Н. Новоселов, В. С. Толстиков. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 1995. - 448 с.
- Реут, Г. А. Ведомственные населенные пункты Министерства среднего машиностроения СССР в Сибири (1949-1991 гг.): дис. ... д-ра ист. наук / Г. А. Реут. - Иркутск, 2014. - 600 с.
- Brown, K. Plutopia: nuclear families, atomic cities, and the great Soviet and American plutonium disasters / К. Brown. - N. Y.: Oxford University Press, 2013. - 406 p.
- Rowland, R. Russia's Secret Cities / R. Rowland // Post-Soviet geography and economics. - 1996. -Vol. 37, Iss. 7. - P. 426-462.
- Siddiqi, A. Atomized uibanism: secrecy and security from the Gulag to the Soviet closed cities / A. Siddiqi // Urban History. - 2021. - Vol. 48. - P. 4. - P. 1-21.
- Кузнецов, В. Н. Комсомол в закрытом городе / В. Н. Кузнецов. - Екатеринбург: Полиграфист, 2006. - 320 с.
- Кузнецов, В. Н. Общественно-политическая жизнь в закрытых городах Урала. Первое десятилетие / В. Н. Кузнецов. - Екатеринбург: Постмодерн, 2003. - 156 с.
- Melnikova, N. Communication practices of interaction of the Ural Nuclear Bomb specialists and government authorities / N. Melnikova // Procedia -Social and Behavioral Sciences. - 2016. - Vol. 236. -P. 356-361.
- История создания ядерного оружия в СССР 1946-1953 годы (в документах): в 8 т. -Т. 2. Кн. 2. - Саров (Арзамас-16), 2000. - 258 с.
- Политбюро и дело Берия: сборник документов / под общ. ред. О. Б. Мозохина. - М.: Кучково поле, 2012. - 1088 с.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). - Ф. 10208. - Оп. 2. - Д. 1492. -Л. 284.
- ГАРФ. Л. 280.
- ГАРФ. Л. 282, 281.
- ГАРФ. Л. 287-288.
- ГАРФ. Л.289-291.
- ГАРФ. Л. 291.
- ГАРФ. Л. 292.
- Артёмов, Е. Т. Органы госбезопасности в советском атомном проекте: функции и вклад в реализацию / Е. Т. Артемов // Уральский исторический вестник. - 2019. - № 1 (62). - С. 129-136.
- ГАРФ. - Ф. 10208. - Оп. 2. - Д. 1492. -Л. 274-276.
- ГАРФ. - Ф. 10208. - Оп. 2. - Д. 1492. -Л. 283.
- ГАРФ. - Ф. 10208. - Оп. 2. - Д. 1492. -Л. 284.
- ГАРФ. - Ф. 10208. - Оп. 2. - Д. 1492. -Л. 278.
- ГАРФ. - Ф. 10208. - Оп. 2. - Д. 1492. -Л. 293.
- ГАРФ. - Ф. А-385. - Оп. 23. - Д. 1466. - Л. 1.
- Седов, В. В. Мобилизационная экономика: советская модель / В. В. Седов. - Челябинск: ЧГУ, 2003. - 177 с.