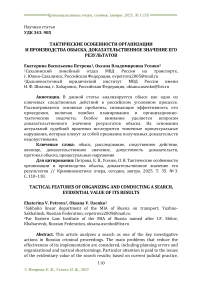Тактические особенности организации и производства обыска, доказательственное значение его результатов
Автор: Петрова Е.В., Усенко О.В.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (35), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируется обыск как одно из ключевых следственных действий в российском уголовном процессе. Рассматриваются основные проблемы, снижающие эффективность его проведения, включая ошибки планирования и организационно-тактические недочеты. Особое внимание уделяется вопросам доказательственного значения результатов обыска. На основании актуальной судебной практики исследуются типичные процессуальные нарушения, которые влекут за собой признание полученных доказательств недопустимыми.
Обыск, расследование, следственное действие, жилище, доказательственное значение, допустимость доказательств, протокол обыска, процессуальные нарушения
Короткий адрес: https://sciup.org/143184942
IDR: 143184942 | УДК: 343. 985
Текст научной статьи Тактические особенности организации и производства обыска, доказательственное значение его результатов
Обыск является одним из наиболее значимых и в то же время противоречивых следственных действий в российском уголовном процессе. Его ключевая роль обусловлена высоким потенциалом в обнаружении и изъятии доказательств, имеющих решающее значение для расследования. Однако принудительный характер обыска, сопряженный с существенным ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища и частной жизни, предъявляет повышенные требования к законности и обоснованности его проведения. Актуальность настоящего исследования заключается в существующем несоответствии между детальной законодательной регламентацией и правоприменительной практикой, которая свидетельствует о недостаточной эффективности данного следственного действия. Зачастую результаты обыска становятся предметом процессуальных споров, а допущенные ошибки приводят к признанию ключевых доказательств недопустимыми.
Основная часть
В системе следственных действий, предусмотренных действующей редакцией Уголовнопроцессуального кодекса Россий- ской Федерации1 (далее – УПК РФ), обыск занимает одну из главенствующих позиций, являясь по своей природе таким следственным действием, которое направлено в первую очередь на отыскание и изъятие всего того, что может иметь значение для уголовного дела. Е.И. Третьякова отмечает, что обыск, являясь эффективным приемом сбора доказательств, носит ярко выраженный принудительный характер и ограничивает такие конституционные права человека и гражданина как право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища [1, с.428]. Именно эта условная двойственность, которая заключается в высокой следственной ценности и одновременно существенном ограничении прав личности, обуславливает особый правовой статус обыска, выделяя его из перечня иных следственных действий на основании повышенных правовых требований к законности и обоснованности.
Вместе с тем, несмотря на многолетнюю правоприменительную практику и детальную, на первый взгляд, законодательную регламентацию, эффективность данного следственного действия зачастую остается довольно низкой, а полученные в процессе его производства результаты становятся предметом процессуальных споров касательно доказательственной силы итогов обыска.
Правовая регламентация обыска, закрепленная в статье 182 УПК РФ, определяет его как следственное действие, направленное на поиск и изъятие орудий преступления, документов, ценностей и других предметов, имеющих значение для уголовного дела или для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. Однако за этой формальноюридической определенностью, по нашему убеждению, скрывается его двойственная правовая природа. Эта двойственность проявляется в том, что, с одной стороны, обыск является мерой принудительного характера, нацеленной на получение доказательственной информации, а с другой – законодатель подчеркивает исключительный статус обыска, допуская его производство лишь при исчерпании возможностей достижения тех же целей иными, менее правоограничивающими способами. Именно этот баланс между принуждением и правовой гарантией составляет ядро его процессуальной сущности.
При этом, как верно указывают Н. А. Моругина и Е. И. Сидорова, в уголовно-процессуальной теории виды обыска классифицируются по различным критериям [2, с. 246]. Наиболее распространенная классификация, частично отраженная в указанной выше статье уголовнопроцессуального закона, основана на объекте обследования: это обыск в нежилом помещении или на участке местности, обыск транспортного средства, обыск жилища и личный обыск. При этом наиболее заслуживающим внимания является обыск жилища, выделенный в отдельную категорию.
Основной проблемой, предопределяющей многие последующие трудности, является этап получения судебного решения на производство обыска в жилище. Однако, как справедливо отмечают Н. П. Печников, В. В. Лутовин правовых оснований производства следственных действий для того, чтобы их производство было законным, обоснованным и мотивированным недостаточно, необходимо ещё наличие фактических оснований для его производства [3, с. 173]. Формально, действующий УПК РФ требует наличия «достаточных данных» полагать, что в определенном месте или у определенного лица могут находиться искомые объекты. Однако само понятие «достаточности данных» носит оценочный характер и не имеет четких законодательных критериев.
В правоприменительной практике это приводит к тому, что основания для производства обыска, представляемые следователем в суд, зачастую носят предположительный характер и опираются на материалы оперативно-розыскной деятельности, не получившие должной процессуальной верификации. В таких условиях институт судебного контроля, призванный служить эффективным барьером для защиты от произвольного вмешательства в частную жизнь, рискует приобрести формальный характер. Результатом этого становится санкционирование следственных действий, которые не приводят к обнаружению искомых объектов. Подобные безрезультатные обыски не только не способствуют целям расследования, но и влекут за собой ограничение конституционных прав граждан, негативно сказываясь на уровне доверия к правоохранительной системе в целом.
Недостаточность реального, а не формального судебного контроля на первоначальном этапе может являться первопричиной снижения общей эффективности этого следственного действия. Однако, как показывает анализ правоприменительной практики, в случае, если обыск оказался результативным, отдельные отступления от установленной процессуальной формы, не ставящие под сомнение достоверность его итогов, зачастую не рассматриваются судами в качестве безусловного основания для признания полученных доказательств недопустимыми. Так, суд кассационной инстанции при рассмотрении одного из уголовных дел установил, что обыск в месте проживания Л. был проведен в строгом соответствии со ст. 182 УПК РФ с участием понятых и самого Л. на основании судебного решения. При этом неточность в протоколе обыска, касающаяся даты судебного постановления о разрешении обыска, является технической ошибкой и не служит основанием для признания протокола недопустимым доказательством, кроме того, при проведении обыска факт отсутствия собственников дома, где проживал осужденный, не ставят под сомне- ние законность данного следственного действия2.
При этом важно, что согласно ст. 182 УПК РФ, наличие судебного решения для производства обыска необходимо, только если речь идет о жилище. Так, при рассмотрении кассационной жалобы адвокат ссылался на незаконный обыск без судебного решения. Однако, как указал кассационный суд, обыск проводился в нежилых пристройках к дому А. и был правомерно основан на постановлении дознавателя. Свидетельские показания сотрудников полиции и понятых содержат сведения о том, что обыск проходил в магазине, не имеющем признаков жилого помещения. Поскольку магазин, являясь пристройкой, не предназначался и не использовался для проживания (ни временного, ни постоянного), судебное решение для его обыска не требовалось, при этом протокол обыска не содержит каких-либо заявлений или замечаний осужденного относительно порядка проведения следственного действия или неправомерных действий сотрудников правоохранительных органо в3.
Заслуживает отдельного внимания и разъяснения также вопрос о необходимости получения судебного разрешения на проведение обыска в ломбарде. Несмотря на от- сутствие в УПК РФ прямого указания на это, в теории имеет место мнение о необходимости получения судебного разрешения [4, с. 111].
Таким образом, проблематика эффективности обыска носит комплексный характер и включает в себя три взаимосвязанных аспекта: правовой, организационнотактический и доказательственный. Первый аспект предполагает безусловное соблюдение процессуальной формы и гарантий, второй – грамотное применение криминалистических приемов, третий – надлежащую оценку полученных результатов судом на предмет их допустимости и относимости. Нарушение, допущенное при соблюдении одного из этих элементов, нивелирует значение остальных, разрушая всю конструкцию следственного действия.
На практике уязвимость правового элемента зачастую проявляется еще на стадии инициирования обыска в содержании самого ходатайства следователя о его производстве. К наиболее распространенным дефектам таких ходатайств относятся: отсутствие точной локализации места проведения обыска, неконкретность перечня искомых объектов, а также опора на сведения из анонимных или не верифицированных надлежащим образом источников. Следует подчеркнуть, что формальная ссылка на нормы закона без их наполнения конкретным фактическим содержанием не может формировать стандарт «достаточных данных», являющийся обязательным основанием для санкционирования обыска.
Именно поэтому значимым фактором, влияющим на результативность данного следственного действия, является организацион- но-тактическое своеобразие подготовительного этапа к проведению обыска. Качественная подготовка включает в себя не только изучение материалов дела, но и сбор подробной информации о личности обыскиваемого, его образе жизни, привычках, возможных контрмерах по сокрытию улик. Необходимо тщательно проанализировать характеристики самого объекта обыска – планировку помещений, наличие тайников, подсобных построек, а также прилегающей территории. Важнейшим элементом подготовительного этапа обыска является формирование следственнооперативной группы, грамотный подбор ее участников. В зависимости от специфики дела это могут быть специалисты-криминалисты, кинологи, специалисты в области компьютерной техники. Именно пренебрежение участием IT-специалиста становится сегодня одной из главных тактических ошибок. В эпоху цифровизации основная доказательственная информация хранится не в виде бумажных документов, а на жестких дисках компьютеров, в смартфонах и др. Некомпетентное изъятие подобных технических устройств или информации, содержащейся на них, без соблюдения специальных процедур может привести к безвозвратной утрате данных или к тому, что полученная информация будет признана недопустимым доказательством.
При этом важно учитывать, что обыск возможен только при наличии возбужденного уголовного дела. Так, по одному из уголовных дел судом кассационной инстанции было установлено, что в приговоре, обосновывая виновность осужденного, суд первой инстанции ссылал- ся среди прочего на протокол изъятия предметов и документов в кабинете Г. Однако, как следует из протокола, изъятие фактически представляло собой обыск. Предметы были обнаружены не при визуальном осмотре или добровольной выдаче, а в результате поисковых мероприятий, включавших вскрытие металлических хранилищ, столов и шкафов. Такие действия допустимы только при проведении обыска, согласно ст. 182 УПК РФ. Следовательно, произведенное действие было не изъятием в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ, а обыском, который может проводиться только после возбуждения уголовного дела. Учитывая, что обыск проводился с 21:35 до 4:12, а уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Феде-рации4 (далее – УК РФ) было возбуждено только в 10:00 следующего дня, протокол изъятия, согласно ч. 2 ст. 75 УПК РФ, является недопустимым доказательством и должен быть исключен из числа доказательств виновности осужденного5.
Признание протокола недопустимым доказательством автоматически влечет за собой и недопустимость всех полученных в ходе обыска доказательств. Если суд констатирует наличие существенных нарушений норм УПК РФ при производстве обыска, то полученные доказательства, вне зависимости от их обличительной силы – будь то орудие преступления или предметы, ограниченные в гражданском обороте, – не могут быть использованы для обоснования обвинительного приговора. Данное положение подчеркивает особую важность скрупулезного соблюдения процессуальной формы в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем правоприменительная практика не демонстрирует абсолютной последовательности в этом вопросе. Нередко суды трактуют допущенные следователем нарушения как «несущественные», не влияющие на законность результатов.
Так, кассационный суд указал, что суд первой инстанции обоснованно не нашел причин считать протокол обыска в жилище М. Е. Н. недопустимым доказательством. Понятая, присутствовавшая на протяжении всего следственного действия, подтвердила как его ход, так и результаты. Замена понятого, самовольно покинувшего место обыска, не является основанием для признания протокола обыска недопустимым доказательством. Обнаружение наркотических средств и весов было зафиксировано фотосъемкой в ходе обыска. Кроме того, защита никогда не оспаривала ни факт наличия, ни факт изъятия наркотических средств и весов в квартире осужденног о6.
В рамках другого уголовного дела суды сразу трех инстанций признали, что протокол обыска в жилище П. также является допустимым доказательством, указав при этом, что П. не заявлял о порче имущества, позднем появлении понятых или непредъявлении постановления о производстве обыска. Тот факт, что в протоколе не указаны точные места обнаружения предметов и веществ, не ставит под сомнение законность обыска и его результаты, если учитывать, что он проводился в квартире-студии. Понятые подтвердили в своих показаниях, что видели, где и какие предметы были обнаружены и изъяты, а также то, что изъятые предметы упаковывались, опечатывались и подписывались ими, а отсутствие защитника при обыске не является нарушением уголовнопроцессуального закон а7.
Таким образом, в процессе обыска следователь должен не только обнаружить и изъять предметы, имеющие значение для уголовного дела, но и правильно зафиксировать этот процесс в протоколе. От полноты и точности описания изъятых предметов, места их обнаружения и обстоятельств изъятия зависит их доказательственное значение. Недостаточно четкое или неполное описание может привести к тому, что в дальнейшем возникнут сомнения. Не менее важно точно зафиксировать в протоколе все замечания участников обыска, в том числе обыскиваемого и его защитника. Игнорирование или искажение таких замечаний расценивается как нарушение права на защиту и может послужить основанием для признания результатов обыска недопустимыми.
Выводы и заключение
В заключение следует указать, что проблемы эффективности обыска и обеспечения доказательственного значения его результатов носят комплексный и взаимосвязанный характер. Низкая эффективность часто является следствием не только тактических просчетов, но и изначальных ошибок на стадии получения судебной санкции, когда такая требуется, а также процедурных нарушений в ходе его проведения. Каждое подобное нарушение, в свою очередь, создает риск признания полученных доказательств недопустимыми, что обесценивает все усилия следствия.
Для повышения качества следственного действия необходим комплексный подход. Приоритетным направлением является обеспечение действенного судебного контроля на стадии санкционирования, что предполагает определение стандарта обоснования необходимости в ходатайства следственных органов. Одновременно с этим фиксация результатов, являясь ключевым фактором в обеспечении законности проведенияя обыска, должна восприниматься не как формальная процедура, а как гарантия законности и допустимости полученных доказательств.
Не менее значимой является оптимизация организационнотактического обеспечения обыска, включающая тщательное планирование, обязательное привлечение лиц, обладающих специальными знаниями (в особенности в области информационных технологий и компьютерной криминалистики), а также разработку и внедрение унифицированных методик работы с электронными носителями информации.
Только комплексное решение этих проблем позволит достичь не- обходимого баланса между объективными нуждами предварительного расследования и защитой конституционных прав граждан, превратив обыск в самый эффективный инструмент установления истины по уголовному делу.