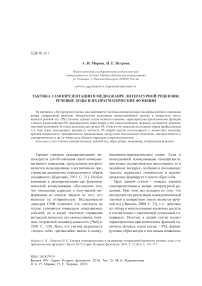Тактика самопрезентации в медиажанре литературной рецензии: речевые ходы и их прагматические функции
Автор: Морева Анастасия Николаевна, Петрова Наталия Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
На материале «Литературной газеты» рассматривается тактика самопрезентации как форма речевого поведения автора литературной рецензии. Инструментом реализации коммуникативной тактики в конкретном тексте является речевой ход (РХ), поэтому задачей статьи является описание, характеристика прагматических функций и анализ взаимодействия РХ, формирующих образ автора и тем самым влияющих на ракурс восприятия рецензии массовой аудиторией. В статье выделены две группы РХ. Одна из них нацелена на создание образа профессионала и в этом плане дистанцирует критика от читателя. РХ второй группы сигнализируют о личностных качествах критика (искренность, приверженность традиционным для русской ментальности ценностям, самокритичность и самоироничность и др.) и имеют цель сблизить адресанта и адресата рецензии.
Тактика самопрезентации, речевой ход, образ автора, медиажанр, литературная рецензия
Короткий адрес: https://sciup.org/147219605
IDR: 147219605 | УДК: 81.411
Текст научной статьи Тактика самопрезентации в медиажанре литературной рецензии: речевые ходы и их прагматические функции
Термин «тактика самопрезентации» используется для обозначения такого коммуникативного поведения, «результатом которого является моделирование в когнитивном пространстве реципиента определенного образа говорящего» [Куралева, 2015. С. 31]. Особое внимание к самопрезентации как феномену массовой коммуникации обусловлено тем, что отношение адресата к получаемой информации во многом зависит от того, кто является ее отправителем. Исследователи дискурса СМИ отмечают, что «читатель не только становится очевидцем описываемых событий, но и видит текстовое отражение авторской личности, его самосознания, позиции, творческой индивидуальности» [Чибук, 2010. С. 129]. Ясно, что умение журналиста «подать себя» чрезвычайно важно в комму- никативно-прагматическом плане. Если в повседневной коммуникации самопрезента-ция может осуществляться неосознанно, то в медийном дискурсе, особенно в письменных текстах, журналист сознательно и целенаправленно формирует в тексте образ себя.
Цель данной статьи – описать тактики самопрезентации в жанре литературной рецензии. При этом мы исходим из того, что инструментом реализации коммуникативной тактики в конкретном тексте является речевой ход [Ланских, 2008. С. 33], т. е. действие по отбору и использованию языковых средств в соответствии с тактической установкой говорящего. Поэтому в задачи статьи входит характеристика прагматических функций типичных речевых ходов (далее - РХ), формирующих образ автора и тем самым влияющих
Морева А. Н., Петрова Н. Е. Тактика самопрезентации в медиажанре литературной рецензии: речевые ходы и их прагматические функции // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 6. С. 110–117.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 6: Журналистика © А. Н. Морева, Н. Е. Петрова, 2016
на ракурс восприятия рецензии массовой аудиторией, а также анализ их взаимодействия в рамках тактики самопрезентации. Источником материала послужили номера «Литературной газеты» за 2009–2014 гг.
В рамках тактики самопрезентации автор рецензии стремится преподнести с выгодной стороны свои профессиональные и личностные качества. Анализ фактического материала показал, что данная задача решается через использование таких РХ, как профессиональная идентификация, творческая мастерская, интертекстуальность, трюизм, совет, воспоминание / случай из жизни, признание, впечатление от прочитанного, уступка / оправдание, самокритика / самоирония, апелляция к вечным ценностям, субъективация суждения. Рассмотрим содержание каждого из них, обращая внимание на общие и различные функции РХ в реализации тактики самопре-зентации.
РХ профессиональная идентификация предполагает включение в текст информации о роде занятий автора:
У меня как человека , довольно долго занимавшегося историей литературы США , особенный и даже несколько ревнивый интерес вызвали фрагменты книги, имеющие к ней прямое касательство (Крутой пацан, море и оскомина. ЛГ. 2011. № 10); Как редактор , я восхитился талантом переводчика и считаю, что эта книга займѐт достойное место в библиотеке фантастических произведений (Звездный Спас. ЛГ. 2014. № 23).
Важно подчеркнуть, что объективная информация о профессиональной деятельности вводится ненавязчиво и всегда имеет подтекст: намек на компетентность автора. В приведенных примерах оператор как , выражающий (независимо от знаков препинания) значение ʽв качествеʼ и одновременно значение ʽпо причинеʼ, позволяет лаконично указать на профессиональный опыт автора как основание для вынесения объективных оценок определенному литературному материалу. В результате у читателя формируется понимание того, что суждениям автора текста можно доверять.
РХ творческая мастерская показывает процесс анализа художественного произведения «изнутри». Для этого в тексте рецензии используются метатекстовые описания аналитических действий и размышлений автора, в том числе и метаязыковые высказывания:
« Пародия » – не то . « Ремейк » – это к Киркорову. Пожалуй, самым подходящим является интеллигентный термин « адаптация » (Аспирантская проза. ЛГ. 2011. № 37); Так случилось, что читала я рассказы из сборника Алексея Варламова месяца три назад, а за рецензию взялась только сейчас. Но это и хорошо – писать не по первовкусию, а после, когда все уже улеглось, отстоялось, вызрели и спрессовались смыслы (Тело под белым халатом. ЛГ. 2011. № 40).
Данный РХ создает у читателя ощущение непосредственности происходящего: он «видит», как критик приступает к анализу произведения, подбирает нужное слово, резюмирует сказанное. Это помогает адресату текста чувствовать себя включенным в процесс рецензирования, а значит – подспудно побуждает его стать единомышленником автора.
Функционально данный ход тесно связан с РХ профессиональная идентификация, поскольку его прагматическая направленность та же: образ человека, серьезно относящегося к своему делу, тщательно подбирающего слова, стремящего к глубокому пониманию рецензируемого текста, всегда вызывает уважение и доверие.
РХ интертекстуальность. Этот многофункциональный РХ в рамках тактики само-презентации используется для демонстрации литературной эрудиции автора. Языковым маркером его служат прецедентные имена:
Чума – потрясающая тема, проверяющая человека на способность выстоять и стать сильнее. Боккаччо в «Декамероне» побеждает флорентийскую эпидемию настроением радости и житейского разнообразия. Пушкин в «Пире во время чумы» принимает мир в его самых грозных проявлениях, разгоняя призраков отчаяния и смертельной депрессии. Камю в «Чуме», не зная ни Бога, ни романтизма, не ведая ренессансной легкости, помогает человеку философией нового стоицизма (Чумовой роман. ЛГ. 2012. № 27); В этой детской поэзии слышны мотивы Роберта Льюиса Стивенсона: дети, которые играют одни; с ними, в мире фантазий, играют дожди, вороны, кошки, бабушка Зима; рассказ «Реку перейти» – неожиданная ва- риация на тему «И грянул гром» Брэдбери, но вместо отчаяния здесь – надежда на будущее, и не абстрактная, а вполне определенная: надежда на русскую молодежь, которая повзрослеет и осознает свою историческую принадлежность (Добрые или красивые? ЛГ. 2012. № 22).
Обилие литературных аллюзий, отсылок к русской и зарубежной классике создает ощущение начитанности, образованности и, как следствие, профессиональной компетентности критика.
РХ трюизм базируется на том, что профессиональный статус автора текста позволяет ему делать общие умозаключения, касающиеся типичных особенностей литературного процесса. Трюизмы, т. е. суждения, представляющие собой общеизвестные и не подвергаемые сомнению истины, помогают критику «быть убедительным»:
Так всегда бывает : когда маленькое зло не вытаскиваешь за ушко да на солнышко, оно постепенно растет и в конце концов объявляет себя добром… ; Здесь Байяр сознательно упускает из виду, что результат чтения – это не насколько хорошо ты запомнил повествование, а что ты по этому поводу рассудил и почувствовал (Гуманитарий в обжорном ряду. ЛГ. 2012. № 49); У людей сегодня нет времени читать книги – разве что газеты. (...) Удобнее писать о человеке уже после смерти – чтобы удобнее было врать (Листаж и премиаж. ЛГ. 2011. № 43); Публицистика требует фактов , она невозможна без их анализа, без их обобщения, пусть самого тенденциозного (Неживое. ЛГ. 2010. № 47–48).
Как отмечают психологи, суждения-трюизмы являются эффективным средством манипуляции. В силу своей очевидности и афористичности они не требуют размышления, ответной реакции. Минуя сознание, трюизм прямиком попадает в подсознание и тем самым помогает направить мысль адресата в нужное адресанту русло. При этом субъект трюизма позиционируется как источник авторитетного мнения, что работает на повышение его коммуникативного статуса.
РХ совет связан с речевой маской учителя, выполняющего просветительскую функцию по отношению к читателю и даже писателю (о речевых масках литературного критика см.: [Морева, 2014]). Выражается он через использование глагольных форм с императивной семантикой:
Что ж, запретить писателю писать то, что он хочет, мы не можем. Но мы можем предостеречь читателя от пустой траты времени. И мы это делаем. Перечитайте Толстого, Бунина, Чехова. Хоть в двадцать пятый раз. Не верьте пустой болтовне, не верьте холодному уму. Бижутерии при вс е м сво е м блеске никогда не стать золотом. Верьте сердцу. Оно не обманет (Поролоновая яма. ЛГ. 2011. № 35).
Чтобы быть убедительным в роли «учителя», автор критического текста должен так или иначе продемонстрировать и подчеркнуть свои профессиональные качества, поэтому этот ход особенно тесно взаимодействует с РХ профессиональная идентификация, творческая мастерская, интертекстуальность.
Если рассмотренные выше РХ в целом направлены на создание образа специалиста высокого уровня и в этом плане дистанцируют автора рецензии от читателя, то нижеследующие имеют цель скорее сблизить коммуникантов, установив между ними позитивные межличностные отношения. Критик нередко стремится преподнести себя как обычного человека, для которого чтение художественного произведения – это прежде всего эмоциональный процесс. Исследователи связывают такое речевое поведение с изменением модели критической деятельности, когда отвергается «образ всезнающего, авторитетного критика - судьи» и формируется образ «читателя, комментатора, медиатора и собеседника» [Говорухина, 2010. С. 21]. Для того чтобы стать наравне с читателем, расположить его к со-чувствию, со-размышлению, со-раздумью, автор медийной рецензии широко использует речевые ходы, субъективирующие текст.
РХ воспоминание / случай из жизни позволяет продемонстрировать предельную открытость критика и создать атмосферу доверительных отношений. С этой целью используется стилистика нарратива как субъективного рассказа о событиях прошлого:
Я хорошо помню, как, прочитав ее, люди в возрастном диапазоне примерно от 16 до 50 принялись отождествлять себя с героями этого писателя, стараясь пить так, как пьют и не пьянеют они; говорить так, как говорят они, – междометиями; и любить тоже так, то есть ни к кому тесно не привязываясь и сохраняя независимость; и уж ни за что не выказывать чувств, глухо намекая всем видом, что где-то глубоко они есть (Крутой пацан, море и оскомина. ЛГ. 2011. № 10); Помню, торговал я книжками на заре 90-х. Четыре кирпича и фанерка. Самый хит продаж был – «Марианна» с портретом мексиканской актрисы Вероники Кастро на обложке. Всех покупателей я честно предупреждал: это про другую Марианну, не про ту, которая «Богатые тоже плачут»! Всѐ равно брали люди (Бабье дело – фрукта да овощь. ЛГ. 2014. № 9).
РХ впечатление от прочитанного. Данный ход используется для выражения оценки в тактике положительной или негативной презентации объекта рецензии. В рамках тактики самопрезентации реализуется другая функция названного хода. Критик делится с читателем своим впечатлением от прочитанного, чтобы, с одной стороны, сделать повествование более живым, эмоциональным, а с другой - продемонстрировать открытость и доверительность по отношению к адресату - собеседнику:
Закрываешь книгу с ощущением: что-то новое и хорошо узнаваемое. Если реализм, то – магический. Не совсем в духе Гарсиа Маркеса, но где-то в этом направлении. (Прославление Болота. ЛГ. 2012. № 49); Чтение меня потрясло. Перепахало. Будто мне лет четырнадцать. Валериан Майков писал, что русская девушка, когда влюбляется, плачет. Я тоже обычно плачу, когда меня СИЛЬНО задевает книга. А тут хотелось пританцовывать, напевать, смеяться и кричать «эге-гей». Странно... (Как меня ударили микроскопом. ЛГ. 2014. № 20); Раздражают настырная невнятица, сумбурный и неумный ассоциативный лепет, уже давно просроченный постмодернистский фастфуд. Хочется свежего воздуха подлинной поэзии. Пусть и верлибрической (Вер-либнуться можно. ЛГ. 2009. № 31); В книге дается интерпретация популярным мультфильмам, сказкам, кинокартинам. Автор пытается преподнести все это с юмором, но отчего-то не смешно. Местами забавно, местами пошло, а в целом – скучно (Необыкновенный фашизм. ЛГ. 2011. № 42).
Данный РХ решает целый комплекс прагматических задач. Во-первых, использование средств субъективированной, эмоциональной оценки помогает критику избежать опасности «быть чересчур ученым», чей профессиональный анализ может отпугнуть читателя, показаться «скучноватым». Массовой аудитории, на которую ориентирована медийная рецензия, могут быть ближе чувственные переживания, нежели рациональная аргументация. Во-вторых, данный ход позволяет высказать замечания по поводу качества произведения таким образом, что вынесенные оценки нельзя будет подвергнуть сомнению, поскольку речь идет об эмоциях и чувствах, которые, как известно, не требуют доказательств и не могут быть верифицированы. Наконец, открывая свое внутреннее пространство для читателя, автор-критик заявляет о таких ценящихся сегодня личностных качествах, как расположенность к контакту, искренность, доверительность.
РХ признание теснейшим образом взаимодействует с предыдущим РХ. Цель его – продемонстрировать искренность, которая является не только одной из максим успешного общения, но и залогом установления доброжелательных отношений между критиком и читателем. На языковом уровне «признание» реализуется за счет метаязыковых маркеров соответствующей семантики ( честно говоря , должен признаться , признаюсь по секрету и под.):
Честно говоря , мне не нравится литературная серийность (Застой и «вселенная смыслов». ЛГ. 2012. № 45); А вот что мне откровенно понравилось – это сборник рассказов Наринэ Абгарян « Манюня » . Смешные и грустные истории про детство (Чулки в сеточку. ЛГ. 2011. № 8); Признаюсь по секрету : больше люблю читать пьесы, нежели ходить в театр, а театр теперь не шекспировский и не чеховский, а режиссерский (Восток – дело тонкое, но и Запад непрост. ЛГ. 2012. № 21).
РХ субъективация суждения связан в целом с субъективным началом критического текста, автор которого всегда выражает собственное мнение. Основным языковым средством этого хода служат я- операторы:
Лично на меня новая книга Евсеева « Лавка нищих. Русские каприччо » произвела огромное впечатление (Темно иль ничтожно? ЛГ. 2009. № 33–34); Что касается меня , то решение принято : читать книгу Басин-ского о Толстом не буду! (Туманное впечатление. ЛГ. 2012. № 10); Мне кажется , такое сопоставление, учитывая определенную схожесть судьбы « маленьких людей » – Филемона и Бавкиды из « Фауста » и Евгения и Параши « Медного всадника » , – куда как интересней, чем притягивать за уши Сталина на основе фаустовских фраз вроде « старикам я не хозяин »! (Тайна пятого акта. ЛГ. 2010. № 6–7); Очень, на мой взгляд , удачен финал пьесы : в глазах народа, простых горцев, Бестужев уходит в легенду, становясь чуть ли не генералом у Шамиля ( в действительности он погиб в стычке с черкесами ) (Восток – дело тонкое, но и Запад непрост. ЛГ. 2012. № 21).
Подчеркнуто личная позиция критика по той или иной проблеме служит надежным средством положительной самопрезентации, поскольку формально допускает наличие альтернативных точек зрения, возможность формирования у читателя собственного взгляда, ответной реакции. Иллюзия самостоятельного выбора той или иной позиции должна создать привлекательную для современной аудитории атмосферу равноправия.
РХ уступка / оправдание. В рамках этого хода критик умаляет значение тех или иных недостатков художественного произведения или переносит вину за них с писателя на других субъектов литературного процесса (например, издателей), а также на внешние обстоятельства:
Что ж, доброжелательно допустим мы , эссеистика не самое лучшее в человеке <…> (Баня на колокольне. ЛГ. 2010. № 4); Ну то, что в одном предложении два однокоренных слова « высоченный » и « выше » , будем считать мелочью . Ну, не стилист автор (Пылкость отдала, без мыслей. ЛГ. 2008. № 47); Впрочем, вполне возможно, что издатели юного литератора принудили (После царьского житья. ЛГ. 2009. № 7).
Для этого РХ важным является параметр искренности говорящего, от которого зависит интерпретация соответствующего высказывания. Декларируемая доброжела- тельность или оправдание недостатка могут скрывать под собой сарказм или ядовитую насмешку рецензента, уступка же часто формирует тональность снисхождения и, таким образом, понижает статус объекта уступки. Возможно, чтобы смягчить этот эффект подтекста, критик часто объединяет себя с читателем, используя, как в вышеприведенных примерах, инклюзивное мы и эквивалентные ему глагольные формы.
Несмотря на отмеченные особенности, мы рассматриваем РХ уступка / оправдание как средство самопрезентации, потому что он позиционирует автора критического текста как человека объективного, руководствующегося правилами вежливости, настроенного на конструктивное общение, что положительно оценивается большинством людей.
РХ самокритика / самоирония характерен для современных рецензий. Автор может иронически осмыслять собственные действия, манеру письма, способ анализа, нарочито принижать собственный профессиональный статус:
Я , конечно , придираюсь . Роман же не про лошадей. Едем дальше (Анальные плавники, рясистые яблони. ЛГ. 2013. № 5); К слову сказать, для искушенного любителя изящной словесности подобная фраза – непреодолимый повод закрыть книгу и никогда больше еѐ не открывать, ибо глупее « голоса души » придумать ничего невозможно. Однако читатель чуть попроще ( поплоше ), к коим я отношу себя , с удовольствием покупается на подобную фенечку и с видом жадного похитителя душ (в поиске оной) позволяет себе в часы досуга полистать книгу (Чужая душа – потемки. ЛГ. 2012. № 41); Я не историк и не буду делать вид, что лучше Стогова разбираюсь в том, в чем мы оба разбираемся плохо . Остановлюсь на том, что доступно моему разумению (Хинди-руси, швайн, швайн. ЛГ. 2011. № 16–17).
Самокритика и сниженная самооценка говорящего обычно положительно оцениваются в русской речевой традиции, так как ассоциируются с такими важными личностными качествами, как скромность, справедливость. В рамках тактики положительной самопре-зентации этот РХ способствует сближению позиций автора и читателя.
РХ апелляция к вечным ценностям. Одним из самых важных критериев оценки личности является аксиологический. Ценности и антиценности конкретного человека определяют его мировоззренческие установки и нравственные принципы, на основании которых он сам оценивается окружающими. Отсюда ясно, что выражение аксиологической информации должно способствовать формированию образа говорящего в положительном или отрицательном с точки зрения адресата контексте.
По мнению исследователей, литературно-критический дискурс в целом дает широкие возможности для получения информации «о ценностном контексте (ценностном потенциале) авторов рецензий)» [Ильина, 2009. С. 98]. А. Г. Башкатова отмечает, что «литературная рецензия – это не морализаторский жанр, но в то же время в рецензии (особенно сейчас, в эпоху перелома, хаотизма, постмодернизма) должна быть проявлена вполне четкая ценностная ориентация журналиста – ориентация на положительные ценностные категории, на созидательные начала» 1.
Соглашаясь с цитируемым автором, тем не менее отметим, что положительная или отрицательная оценка ценностных установок той или иной личности не может быть абсолютно объективной по целому ряду всем понятных причин. Полагаем, что автор критической статьи учитывает тип потенциального читателя, на которого он предполагает оказать воздействие с тем, чтобы понравиться и вызвать сочувствие. В этом плане рассматриваемый РХ будет в той или иной степени зависеть от редакционной политики издания и специфики той аудитории, на которую это издание ориентируется в целом. Наш материал свидетельствует о том, что авторы «Литературной газеты» наиболее часто апеллируют к таким концептуальным категориям, как любовь , семья , родина , патриотизм , честность и под.:
Мнимо интеллектуальной прозы вдосталь, но мало сейчас литературы, лелеющей пластику, органику жизни, доро- жащей опытом поколений. Больше всѐ антироманы, антиэпос какой-то. <...> Но ирония – не самоцель, она лишь подталкивает к раздумью о главном: о семье, о любви и о вере (Прославление Болота. ЛГ. 2012. № 49); И только для нас, любителей почитать о том, что «нужно честно жить, много трудиться и крепко любить родину», никаких экологических ниш не предусмотрено. Не странно ли? (Бабье дело – фрукт да овощь. ЛГ. 2014. № 9).
Список литературы Тактика самопрезентации в медиажанре литературной рецензии: речевые ходы и их прагматические функции
- Говорухина Ю. А. Русская литературная критика на рубеже XX-XXI веков: Автореф. дис.. д-ра филол. наук. Томск. 2010. 42 с.
- Ильина О. Б. Ценностно-ориентированный потенциал авторской парадигмы в текстах современных немецких рецензий // Вестн. Моск. гос. лингв. ун.та. 2009. № 560. С. 96-103.
- Куралева Т. В. Самопрезентация как коммуникативная стратегия в английском диалоге // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2015. № 50. С. 30-36.
- Ланских А. В. Речевое поведение участников реалити-шоу: коммуникативные стратегии и тактики: Дис.. канд. филол. наук. Екатеринбург. 2008. 183 с.
- Морева А. Н. Типология речевых масок в жанре литературной рецензии (на материале «Литературной газеты») // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 1-1. С. 442-447.
- Чибук А. В. Средства выражения авторской модальности в публицистических текстах (на материале СМИ Германии) // Вестн.Военного ун-та. 2010. № 4 (24). С. 128-133.