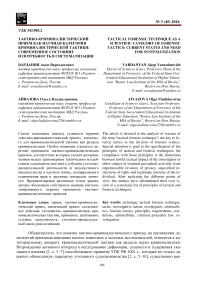Тактико-криминалистический прием как научная категория криминалистической тактики: современное состояние и потребность в систематизации
Автор: Варданян Акоп Вараздатович, Айвазова Ольга Владиславовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 3 (45), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сущности термина «тактико-криминалистический прием», ключевого для криминалистической тактики как раздела криминалистики. Особое внимание уделяется перечню принципов тактико-криминалистических приемов, соответствие которым служит разграничением между правомерным тактическим воздействием следователя или иного субъекта уголовно-процессуальной деятельности от недопустимого вмешательства в частную жизнь, неоправданного ограничения прав и законных интересов личности. Проанализировав различные точки зрения, авторы обосновали собственное видение систематизированного перечня принципов тактико-криминалистических приемов.
Прием, тактический прием, следственное действие, следователь, криминалистика, криминалистическая тактика, принципы, требования, условия, допустимость, уголовно-процессуальный закон, расследование
Короткий адрес: https://sciup.org/142233825
IDR: 142233825 | УДК: 343.985.2
Текст научной статьи Тактико-криминалистический прием как научная категория криминалистической тактики: современное состояние и потребность в систематизации
Общеизвестно, что понятие тактико-криминалистического приема, на протяжении десятилетий привлекая внимание многих известных и молодых исследователей, относится к категориальному аппарату криминалистической тактики как раздела науки криминалистики. Возрождению активного интереса к исследованию дефиниции, сущности и содержания указанного понятия [1, с. 3–7] способствовало принятие УПК РФ 2001 г., который не только закрепил обновленную парадигму уголовного судопроизводства [2, с. 5–10], существенно рас- ширив состязательные начала, в том числе на этапе досудебного производства, провозгласив иные гарантии защиты прав и законных интересов личности как участника уголовнопроцессуальных отношений [3, с. 77–85], но и модернизировал основания и порядок выполнения ряда следственных действий. Это потребовало глобального пересмотра научного арсенала тактико-криминалистических приемов и рекомендаций по осуществлению практически всех следственных действий, который был наработан в недрах криминалистической тактики на протяжении десятилетий.
В течение 15-летнего периода действия нового уголовно-процессуального закона криминалистика пополнилась многими интересными трудами, посвященными различным вопросам совершенствования тех или иных следственных действий, учитывающими веяния обновленной уголовно-процессуальной парадигмы. В них содержится немало заслуживающих специального внимания рекомендаций по оптимизации предварительного расследования [4, с. 123–125; 5. с. 226–229], интенсификации отдельных следственных действий [6, с. 45–49; 7, с. 32–41; 8, с. 162–165; 9, с. 103–105; 10, с. 33–35; 11, с. 2–4; 12. с. 28–30; 13, с. 25–31] в том числе, в контексте нового уголовно-процессуального законодательства [14, с. 103–108; 15, с. 114–117; 16, с. 21–26].
Данная, несомненно, позитивная тенденция в криминалистике, на наш взгляд, одновременно является фактором, требующим обращения к концептуальным положениям криминалистической тактики. Наработка и предложение исследователями многочисленных интересных рекомендаций, несомненно, требуют их переосмысления с точки зрения допустимости их применения в новых уголовно-процессуальных условиях. Однако, обращаясь к категориальному аппарату криминалистической тактики, ее концептуальным положениям, нетрудно обнаружить, что в данной сфере также отсутствует единомыслие.
Само по себе понятие тактико-криминалистического приема как «наиболее рационального и эффективного способа действия или наиболее целесообразной линии поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений», представленное Р.С. Белкиным и его единомышленниками [17, с. 45], которое наиболее распространено в криминалистической литературе, также нередко подвергается критической переоценке. Дискуссией охватывается и соотношение понятий «рациональный», «эффективный», «целесообразная», и оправданность разграничение тактико-криминалистических приемов на дятельностные (наиболее рациональный и эффективный способ действия) и поведенческие (наиболее целесообразная линия поведения). В рамках настоящей статьи считаем целесообразным обратиться к проблеме переосмысления критериев допустимости тактико-криминалистических приемов. На наш взгляд, данная проблема особенно актуальна в современных условиях, поскольку появление новых интересного трудов сочетается с отсутствием единообразия в точках зрения идеологов отечественной криминалистической тактики относительно системы данных критериев. Да и сам по себе системный характер этих критериев, проявляющийся в их взаимообусловленности – с одной стороны, и совокупности – с другой, осознается не всеми исследователями. Между тем, системный подход обладает непреходящей гносеологической ценностью в познании самых различных явлений, изучаемых криминалистикой [18, с. 53–55; 19, с. 86–97]. Соответствие примененных следователем тактико-криминалистических приемов проведения того или иного следственного действия всем критериям (в своей совокупности) позволяет констатировать относимость, допустимость и достоверность полученных таким образом доказательств.
Разногласия по этому поводу начинаются уже с наименования данной научной конструкции. Сосуществует несколько понятий, обозначающих одно и то же явление: «признаки тактических приемов», «требования, предъявляемые к тактическим приемам», «условия, которым должны соответствовать тактические приемы», «свойства тактических приемов», «критерии тактических приемов», «принципы тактических приемов» и т.д. (либо любое из указанных обозначений может применяться также и в отношении тактико-криминалистических приемов). 167

Некоторые авторы также различают критерии допустимости тактических (тактикокриминалистических) приемов (то есть те условия, соблюдение которых обеспечивает допустимость полученных в результате применения данных тактических приемов доказательств) и иные условия (свойства, признаки) тактических приемов, связанные с повышением результативности следственных действий, но не влияющих на допустимость доказательств.
А.Г. Филиппов приводит следующий перечень требований, предъявляемых к тактическим приемам: допустимость; научная обоснованность; целесообразность; эффективность; экономичность; простота и доступность [20, с. 242]. При этом под допустимостью понимается правомерность тактического приема одновременно с позиций законодательства и моральноэтических норм. Целесообразность определяется как «зависимость от конкретной следственной ситуации, обусловленность конкретной целью». Критерием эффективности считается наличие уверенности в том, что в результате применения соответствующего приема будет достигнут ожидаемый эффект. Экономичность трактуется как способность приема обеспечить достижение цели при минимальной затрате сил и средств. Далее указанный автор уделяет некоторое внимание проблеме выполнения всех вышеназванных требований одновременно, акцентируя внимание на сложностях нахождения баланса между целесообразностью, под которой в данном случае понимается использование «следственных хитростей» и недопустимым обманом.
Р.С. Белкин и его единомышленники, формулируя аналогичную научную конструкцию, именуют ее «условиями применения тактических приемов в борьбе с преступностью», в то же время, разъясняя их содержание, они нередко пользуются понятием «принцип», наряду с понятием «условие». В концепции Р.С. Белкина этот перечень включает следующие элементы: правомерность (трактуемая как «верное определение правовых основ использования тактических приемов и рекомендаций»); допустимость (понимаемая двояко: во-первых, как соответствие (не противоречивость) тактических приемов духу и букве закона, а их применения - требованиям законности; во-вторых, как научная обоснованность); доступность (означающая возможность применения соответствующего приема каждым уполномоченным субъектом расследования»; этичность (означающая запрет на допущение элементов оскорбительного характера, унижения чести и достоинства, по отношению как к непосредственным адресатам данных приемов, так и к иным лицам, присутствующим при осуществлении следственных действий) [17, с. 453–456]. Принцип целесообразности в данной концепции не считается решающим при определении правомерности тактического приема, вследствие первичности соблюдения требований правомерности. Таким образом, в отличие от позиции А.Г. Филиппова, Р.С. Белкин и соавторы констатируют отсутствие противоречий между законностью и целесообразностью, обозначая эти условия (принципы, требования) как разноуровневые. В то же время, в этой концепции осуществляется попытка разграничения таких сходных руководящих положений, как правомерность, законность и допустимость. Авторы исходят из того, что, с одной стороны, вследствие целого ряда причин невозможно в уголовно -процессуальном законе представить полный перечень тактико-криминалистических приемов; с другой стороны, некоторые тактико-криминалистические приемы вследствие своей универсальности все же получают законодательную регламентацию, но при этом они не утрачивают статус тактико-криминалистических приемов допроса.
Полностью солидаризируясь в данной части с указанными авторами, констатируем, что понятие «законность», означающее строгое следование закону, применительно к выбору тактико-криминалистических приемов проведения следственных действий и дальнейшей оценки полученных доказательств является чрезмерно узким. Понятия допустимости и правомерности - более широкие по смыслу - означающие не столько буквальное соответствие «букве закона», сколько верное определение правовой основы и непротиворечивость уголовно-процессуальным и иным нормам. Вместе с тем, считаем, что одновременное сосуществование таких условий, как правомерность и допустимость несколько перегружает данную си- стему, усложняя для правоприменителя процесс выбора конкретных тактико-криминалистических приемов и дальнейшей оценки полученных доказательств.
Разумеется, для обеспечения психологического воздействия на допрашиваемого и получения правдивых показаний субъекту расследования не следует применять такие сомнительные приемы, как «гадание» или обращение к различным парапсихологическим сферам, побуждая, например, подозреваемого или обвиняемого признаться в своей причастности к преступлению. Иначе мы придем к глубокому регрессу, сопоставимому с периодом средневековья, уголовное судопроизводство которого принимало подобные «доказательства». В то же время, средства массовой информации свидетельствуют о многочисленных случаях помощи экстрасенсов (парапсихологов) в расследовании сложных замаскированных преступлений, поэтому огульно отвергать то, что пока лежит вне плоскости познания официальной науки, преждевременно. Другое дело, что в данном случае можно констатировать отсутствие такого критерия, как «научная обоснованность». Подобная информация может быть отнесена к ориентирующей (например, подсказывающей у кого именно и в каком конкретно месте следует в безотлагательном порядке провести обыск - при наличии общих оснований, касающихся широкого круга субъектов и мест), в полном объеме подлежащей процедуре формирования (собирания) доказательств, их проверки и оценки по правилам уголовнопроцессуального закона.
определено, в первую очередь, потребностью в уважении чувств верующих и соблюдении религиозных догматов в соответствующих помещениях.
Итак, проанализировав различные точки зрения, сформулируем наше видение данной проблемы. Нам представляется, что наиболее удачное наименование данной научной конструкции – принципы тактических (тактико-криминалистических) приемов. Иные сходные по смыслу понятия (требования, критерии, признаки, свойства, условия и др.) тоже приемлемы, но в отличие от них, значение термина «принципы» (от греческого слова «начала») акцентирует внимание на их первичности, расположенности в основе иных положений, с учетом и во исполнение которых избирается тот или иной тактический прием.
Структура принципов тактических приемов, по нашему мнению, такова: допустимость; научная обоснованность; практическая целесообразность; доступность; результативность; этичность.
Принципом допустимости, на наш взгляд, охватывается: соответствие правовой основе и уголовно-процессуальным нормам, непосредственно регулирующим основания и порядок проведения конкретного следственного действия. Еще раз поясним, что мы разделяем точку зрения о том, что тактические приемы могут быть как прямо закреплены в законе, так и вытекать из его положений, но в любом случае не противоречить им.
Научная обоснованность тактического приема предполагает достоверный научный источник его происхождения (наличие соответствующей научной методики, апробированной и внедренной, соответствующей современным научным наработкам и достижениям).
Принцип практической целесообразности проявляется в возникновении типичных следственных ситуаций, требующих применения именно соответствующего тактикокриминалистического приема. Несомненно, принцип практической целесообразности не должен конкурировать с принципом допустимости.
Принцип доступности тактико-криминалистического приема предполагает возможность его применения следователем, дознавателем, не требуя обязательного обращения этих лиц к специальным знаниям, выходящим за пределы стандартов юридического образования.
При этом, говоря о доступности тактико-криминалистического приема, мы не считаем необходимым указывать в качестве принципа простоту тактико-криминалистического приема. В УПК РФ предусмотрен ряд следственных действий, имеющих организационно и тактически сложный, комплексный характер. Входящие в их содержание тактические приемы далеко не всегда просты, но при этом доступны для следователя, дознавателя или судьи как субъектов расследования и рассмотрения дела.
Принцип результативности проявляется в реальности получения искомой доказательственной информацию путем применения конкретного тактического приема в соответствующих условиях.
Принцип этичности заключается в соблюдении морально-этических норм, недопустимости оскорбления и иного унижения человеческого достоинства, обмана, применения физического насилия. Что касается психического воздействия, то сам по себе публичный характер уголовно-процессуальной деятельности обусловливает деятельность следователя и иных уполномоченных субъектов на лиц, проходящих по уголовным делам, в том числе и вопреки их нежеланию взаимодействовать. Поэтому полностью исключить элементы психологического насилия нельзя, другое дело, что можно говорить о психическом воздействии в пределах уголовно-процессуальных норм, что соответствует принципу допустимости. Касаясь одной из актуальных проблем о допустимости «следственных хитростей» и их соотношении с обманом, констатируем, что обман не имеет ничего общего с тактическими приемами психологического воздействия, которые нередко в литературе именуются как «следственные хитрости». Следственные хитрости, во-первых, основаны на научных наработках в сфере психологии; во-вторых, характеризуются избирательностью воздействия, оставляя за адресатом их применения, возможность выбора линии поведения. С точки зрения изложенного нами пе- 170
речня принципов тактических приемов, потенциал «следственных хитростей» как разновидностей приемов психологического воздействия, а также избирательный характер их воздействия, можно отнести к содержанию принципа результативности тактических приемов.
Резюмируя вышеизложенное, по нашему мнению, совокупность принципов тактических приемов образована сочетанием следующих положений, находящихся между собой в системных взаимосвязях:
˗ допустимость;
˗ научная обоснованность;
˗ практическая целесообразность;
˗ доступность;
˗ результативность;
˗ этичность.
Список литературы Тактико-криминалистический прием как научная категория криминалистической тактики: современное состояние и потребность в систематизации
- Грибунов О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля / Российский следователь. 2016. № 5. С. 3-7.
- EDN: VOCHAF
- Варданян А.В., Варданян Г.А. Теоретико-методологические проблемы криминалистической тактики в контексте современной модели уголовного процесса / Юристь-Правоведь. 2015. № 6 (73). С. 5-10.
- EDN: VIDMHD
- Коновалов С.И., Моторин А.С. Система уголовно-процессуальных гарантий, детерминирующая производство допроса / Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. № 1-2. С. 77-85.
- EDN: PZZULX
- Кулешов Р.В. Соотношение теории оперативно-боевого противодействия экстремистской и террористической деятельности и криминалистики / Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 123-125.
- EDN: QCKBKF
- Кулешов Р.В. Теория оперативно-боевого противодействия экстремистской и террористической деятельности, уголовный процесс и административное право: проблемы соотношения и преемственности научного знания / Административное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 226-229.
- EDN: PZZTAP