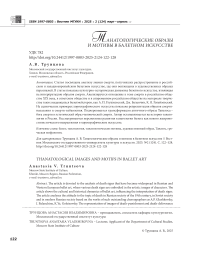Танатологические образы и мотивы в балетном искусстве
Автор: Трунцова А.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура
Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу знаков смерти, получивших распространение в российском и западноевропейском балетном искусстве, где они воплощены в художественных образах персонажей. В статье показана культурно-историческая динамика балетного искусства, влияющая на интерпретацию образов смерти. Анализируется отношение к теме смерти в российском обществе XIX века, в советском обществе и в современном российском обществе на материале творчества таких выдающихся балетмейстеров, как А. П. Глушковский, Дж. Баланчин, К. Я. Голейзовский. На сценических примерах хореографического искусства показана репрезентация образов смерти-наказания и смерти-избавления. Подчеркивается трансформация античного образа Танатоса – бога смерти в эстетический образ человеческой смерти. Автор останавливается на истории танатологии в России. Рассматриваются перспективы развития танатологии балета как нового жанрово-стилистического направления в хореографическом искусстве.
Балет, танатология, танатологические мотивы, художественный образ, Танатос, греческая мифология
Короткий адрес: https://sciup.org/144163447
IDR: 144163447 | УДК: 782 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-122-128
Текст научной статьи Танатологические образы и мотивы в балетном искусстве
Танатологические образы и мотивы присутствуют в балетном искусстве с момента его возникновения. Эстетические трактовки смерти на балетной сцене были различны, но танатологические образы сохраняли своё смысловое содержание, поскольку были закреплены в культурном коде. На ранней стадии развития балета мифологические образы смерти доминировали.
В античной мифологии смерть символически соотносилась с луной, ночью, сном. Танатос в греческой культуре – сын Нюкты-Ночи и брат Гипноса. Он вбирает в себя всё сущее. Смерть несли многие олимпийские боги: Зевс, Афина, Аполлон, Артемида, Геката, Персефона [6, с. 198–199]. Погребение являлось символом посева. Тема смерти и богатства на образном уровне пересекаются. Имя римского бога подземного мира, царства мёртвых, Геспатора обозначает «богатый отец». В балете переосмысливается понятие из античного кода культуры moros – доля, судьба, смерть. Этот знак-понятие определяет меру индивидуального существования человека. В древнегреческой поэтике умерший обозначается как человек на своём месте [9, с. 470–473]. В античном дискурсе образ смерти описывался с чёрными крыльями и сетью для ловли жертв. Подобную сеть имели бог Уран и римский гладиатор, несущий смерть. В балетных текстах зафиксирована закономерность: человек имеет стремление к саморазрушению. Смерть обладает для него тонким очарованием. Присутствие смерти обостряет восприятие жизни. Танатологическую радость перед лицом смерти выражают древнегреческие серены.
Известны несколько десятков предметов, связанных с образом смерти: кипарис, погашенный факел, развалины, венок из плюща, расколотая колонна, пепел, виселица. Фиалка в коде греческой культуры являлась знаком траура, принадлежностью к похоронному обряду. Капюшон плаща указывает на невидимость, как принадлежность загробному миру. Глиняный сосуд воспринимается в качестве знака инобытия умершего человека. Поглощение, поедание (сцены пира) традиционно рассматриваются как посмертное принятие землёй своего творения. Раны на теле умирающего есть знак инициации. Многие предметы и действия в балетных постановках несут в себе влияние образа и символов смерти. Образ двух лебедей у кипариса, к которому прислонена лира, представляет собой еще один из символов смерти. Симметричное расположение символически связано с присутствием смерти, поскольку человеческое тело асимметрично. Один из углов треугольника также обозначает смерть. Во многих балетах встречается подобная поза умирающего. Так завершающая поза в миниатюре «Умирающий лебедь» М. М. Фокина по своей форме напоминает угол треугольника. Смерть в художественном осмыслении не пугает, не вызывает оцепенения.
В коде христианской культуры контакт с умершим рассматривается как осквернение. В балетных спектаклях нередко мир живых и мир умерших представлены в разных актах, разделенных символической чертой антракта. Так в балете «Жизель» первый акт – акт живых, а второй акт – акт вилис, то есть умерших девушек. Покойников, как и новорожденных, одевают в новую одежду. Гроб идентичен колыбели новорожденного по своей функции [18, с. 310]. Символ смерти, по мнению Н. Жюльен, близок к символу материнства. Поза зародыша придавалась мёртвым в доисторическую эпоху. Смерть означала отделение человека, его обособление, прекращение отношений [4, с. 368, 370].
Символы мифолого-религиозного комплекса обладают наибольшей устойчивостью в культуре [1, с. 52]. Скелет – символ родства человека с Адамом, который транслируется в культурном пространстве Европы на протяжении многих веков и берет свое начало в христианской культуре. С XIV века атрибутом смерти становится коса. С XVII века на надгробиях появляется череп, иногда с крыльями. Смерть парадоксальным образом ассоциируется с идеей равенства между людьми. В похоронном танце ряд фигур обозначает социальную иерархию. Рядом с каждой фигурой – скелет. Этот танец часто изображается на фресках в европейских церквях уже в XV веке. Танцующие отправляются на кладбище. Похоронный танец отличается от пляски смерти – распространенного средневекового сюжета. По поверью умершие в полночь выступают из могил, готовые танцевать и тем привлекать новые жертвы для смерти. Сама смерть часто изображается в виде черного младенца с крыльями [16, с. 514, 526]. В культуре Европе средневековья и ренессанса скелет считался карнавальным персонажем – Macabre. Его происхождение было парадоксальным. По легенде он произошёл от богини всей плоти Карны. На карнавале персонаж Macabre напоминал о необходимости защиты плоти. Этот персонаж является знаком отсутствия в постановках «Карнавал» А. А. Горского и М. М. Фокина. Тема оживления мертвеца – одна из наиболее известных в балете («Дочь фараона», 1862 г., М. Петипа). Считалось, что мертвых можно оживить с помощью магических ритуалов. Страх перед кладбищем, возможно, был связан с верой в оживление мертвых. Ожившие мертвецы часто считались враждебными людям, кровожадными.
Одним из ключевых образов средневековой культуры является юродивый. В. Ко-палинский описывает танец юродивого как один из танцев, посвященных любви и смерти. Сам танец смерти – это хоровод скелетов во главе со смертью. В Средние века он мог исполняться монахами нищенствующих орденов [6, с. 215]. Т. А. Турскова указывает следующие знаки смерти: змея, кости, серп, болиголов, бездна. Свеча на балетной сцене символизирует мимолетность жизни. Ножницам отводится знаковая роль внезапности, дуализма жизни и смерти [17, с. 401, 776]. Нарцисс в коде культуры был связан с ранней смертью и в этом качестве был перенесён на балетную сцену. В символике тела бедро передаёт смысл начала жизни и будущей смерти [17, с. 51, 391].
По мере развития образа Танатоса к нему обратилось балетной искусство. В балете используются разные технические приемы, присущие классическому танцу. В эпоху романтизма, пальцевой техникой обладали только представители загробного или потустороннего мира. Сильфида, танцующая весь спектакль на пуантах, после своей символической смерти слепнет и больше не может использовать пальцевую технику. Она теряет свои магические способности. Вилисы, восставшие из могил души умерших девушек, танцуют на пальцах. Кончина героя происходит в характере адажио. Танатос, выискивая жертву, совершает прыжки с продвижением – шассе. Сопротивление смерти, агония изображается с использованием партерной техники. В эпоху романтизма боль была одной из характеристик образа смерти. Известны танцовщицы, которые умирали на сцене, испытывая телесные мучения. Так, на балерине Э. Ливри во время спектакля загорелось платье. Она металась по сцене от боли и умерла в мучениях через несколько недель [15, с. 104]. Её смерть стала образом служения искусству до последних мгновений жизни. Традиция изображения символов смерти была заложена в конце XVIII – в XIX и получила развитие в XX веке. В 1790 году Ш. Ле
Пик поставил балет «Смерть Геркулеса». В 1816 году А. П. Глушковский представил спектакль «Смерть Роджера…». Премьера балета Ф. Бернаделли «Смерть Аттилы» состоялась в 1830 году. Дж. Соломони показал балет «Живой мертвец» в 1831 году [13, с. 578].
Танатологические образы и мотивы занимают важное место в коде отечественной культуры. Вопросы смерти волновали русских мыслителей не менее, чем вопросы жизни. Одним из предшественников российских танатологов является В. С. Печерин (1807–1885). В истории русской культуры он известен как автор «Замогильных записок», а также поэмы «Торжество смерти», описывающей Петербург XIX века. Город у него – Некрополис, где быть мертвым лучше, чем живым [12, с. 373–374].
В эстетике модерна произошла дальнейшая эстетизация знака смерти. С началом Первой мировой войны популярностью стало пользоваться танго смерти. Первое упоминание о танго относится к XVIII веку. В XIX веке в Испании он распространился как сольный женский цыганский танец. Причём танцовщица нередко выступала как предсказательница жизни и смерти. В начале XX века танго получило распространение как парный бальный танец в Европе и Америке. Танго смерти исполнялось в умеренно медленном темпе. Основное движение – скользящий шаг Смерти с секундной паузой. Особенностью танца смерти являлось контрастное сочетание движений, редкая смена положений. Корпус Смерти находился на одном уровне. В этом танце смерть не поднималась на полупальцы и не опускалась.
Танатологическая тенденция эпохи модерна повлияла на формирование образа умирающего лебедя. Известные балетмейстеры внесли свои знаки борьбы, надежды, усталости, протеста в трактовку образа. Под влиянием эстетизации Танатоса оказался ранний К. Я. Голейзовский. Он, например, пытался ввести в балетный текст лицо-череп исполнителя, делал акцент на хрустальном гробе («Спящая красавица»). Голейзовский пытал- ся поставить балет, где главным персонажем должна была стать Красная смерть. Спектакль намечался в Большом театре в 1919 году, но не состоялся. В 1918 году выходит постановка «Соната смерти и движений». Танатологическую тему балетмейстер продолжил в хореографическом номере «Плакальщицы».
В идеологическом коде Советской власти слово смерть отсутствовало, зато были слова «жизнь», «животворная» [8, с. 190–191]. Теряя идеологическую жизнь, герои советских балетов обретали жизнь мифическую. Образы героев советских балетов нередко включали в себя мотив своеобразного жертвоприношения. В балете «Юность» (1949 г., Б. А. Фенстер) образ смерти перекодируется в знак колокола. События происходят в 1920 году. Виктор убивает Матфея, в смертельной борьбе Петька сбрасывает Виктора с колокольни, звучит набат, символизирующий смерть и начало новой жизни. В балете «Наш двор» (1970 г.), дети играют в войну. Образы смерти Танатоса не страшны, потому что кажутся игрой. Лена заслоняет товарища своим телом, символически умирает [13, с. 143, 149]. В балете «Двенадцать» Л. В. Якобсона (1964 г.) патруль красноармейцев – это образ жнецов смерти. Петька убивает Катьку, образ Катьки преследует его, но красноармеец включается в марш двенадцати [19, с. 643, 645]. События в Крыму (1944 г.) передаёт балет «Берег счастья». Константин, жертвуя жизнью, спасает товарища. Красное знамя трансформируется в образ жизни и победы. Смерть символизирует громадный танк с рёвом мотора и лязганьем гусениц. В балете «Горда» (1949 г.) мать и отец отдают Танатосу своего сына. Его должны замуровать в стене, чтобы она не разрушилась. Такой образ смерти становится знаком нечеловеческого испытания. В спектакле «Сломанный меч» (1960 г.) герой проникает в подземное царство смерти. В финале он разламывает меч как символ смерти и войны. В балете «Ленинградская симфония» И. Д. Бельского (1961 г.) захватчики «сеют смерть», но их побеждают. Память о погибших представлена как знак бессмертия [14, с. 161]. В балете «Ромео, Джульетта и тьма» (1970 г.)
Танатос обозначен опосредованно через образ тьмы. В финале Эстер погибает, ещё один образ производный от Танатоса – это вражеская пуля. Балетмейстеры пытаются исследовать природу образа смерти, обращаясь к истокам человеческого рода. В балете «Сотворение мира» Н. Д. Касаткина, В. Ю. Василёва (1971 г.) показана попытка ангелов разлучить Адама и Еву, и она кажется страшнее смерти. Сила их любви побеждает смерть, хотя земля представляется мёртвой. С определённым подтекстом показана смерть тирана Каспара Красного, который правил в изолированном пространстве-острове в балете «Морская дева» (1974 г.). Он был поставлен в Тарту, в других городах СССР его не показывали [14, с. 123, 124, 311]. В спектакле «Материнское поле» (1975 г.) Танатос забирает трёх молодых парней, которые отправляются на фронт. Мать прижимает ушанку сына, чувствует его запах. Камни в горах, глаза главной героини без слёз, чёрная косынка – это знаки скорби, противопоставленные смерти. В балете «Алия» (1978 г.) в прологе предстаёт образ девушки, смертельно раненной в бою. Первое действие посвящено её воспоминанию о довоенной жизни. Клятва «стоять на смерть» – это знак ее подвига. Н. Н. Боярчиков в постановке «Фауст» (1999 г.) показал, как распад идеологического кода прочтения балетного текста способен вызвать переоценку недавнего прошлого. Целый ряд манипуляций над жизнью и смертью проделывает Фауст с помощью Мефистофеля: Марта – мёртвый шут – искусственный человек. Балет «Девушка и смерть» по поэме-сказке А. М. Горького ставили Г. А. Майоров, В. Т. Адашевский, А. Г. Шевелёва. Сложную партию Смерти исполнял М. И. Козловский – представитель ленинградской школы классического танца. Выразительность и сдержанная манера исполнителя позволила создать парадоксальный образ Танатоса. Его бог смерти был молодым и привлекательным. Танцовщику на тот момент было менее 30 лет. В послужном списке М. Н. Барышникова было участие в балетных постановках «Прах» и «Юноши и смерть» [13, с. 220, 574]. Обращаясь к истори- ческому прошлому, О. М. Виноградов в балете «Ярославна» создает сцену апофеоза смерти. Женский кордебалет является образом противников русской дружины. Враги умирают, но не по-человечески. Их тела сворачиваются, свисают, образуя грозди.
В России танатология оформилась в 70-е годы XX века во многом благодаря И. Т. Фролову, который попытался выйти за рамки официальной идеологии. По его мнению, трагизм личного соприкосновения со смертью компенсируется родовым бессмертием человека в культуре [3, с. 17]. Признается бессмертие человеческого разума и гумани-стичность человека. Именно в этот период появляется понятие «культура умирания», предполагающая мужественное отношение к смерти.
Петербургская ассоциация танатологов была создана в 90-е годы XX века. Руководитель ассоциации – А. В. Демичев, редактор альманаха «Фигуры Танатоса» [2, с. 282–283]. Предыстория российской танатологии подробно изучена К. Г. Исуповым [5, с. 106–108]. Антропология смерти в XXI веке представлена в работе А. Роббек [11, с. 232–234]. Однако специальные исследования, посвящённые Танатосу в балете, отсутствуют.
Московские танатологи (В. П. Руднев, В. Д. Губин, В. В. Баскаков) поставили вопрос об очеловечивании образа смерти. Стирание памяти приравнивают к наступлению смерти. Одна из проблем, которая интересует московских танатологов, это нерождение как скрытый знак смерти.
Крупные мастера балета имели своё собственное представление о смерти, которым было обусловлено понимание возможности ее символического выражения в классическом танце. Г. С. Уланова была воспитана в православной традиции, где смерть есть итог земной жизни, наказание за первородный грех. В балете «Пламя Парижа» Уланова танцевала партию придворной балерины, которая теряет своего любимого. Под влиянием его смерти бежит на площадь к восставшим. Для Улановой – Марии («Бахчисарайский фон- тан») неволя была страшнее смерти. В период войны Уланова посещала госпитали, отвечала на письма фронтовиков, переживала трагедию смерти миллионов людей. В последнем интервью балерина говорила о будущей книге, посвященной всему тому, «что уходит».
Известный советский балетмейстер Л. М. Лавровский завершает второй акт балета «Ромео и Джульетта» похоронным шествием, а в балете «Паганини» (1960 г.) использует dies irae – часть реквиема и заупокойной молитвы. В ней выражен конфликт музыканта с обществом реакционеров и завистников, отказавшихся после смерти предать его прах земле. В картине «Враги» черные фигуры монахов на заднем плане проносят труп. В последней картине на встречу гения со своей свитой в чёрных одеждах опускается Смерть. Бессмертной остаётся музыка Паганини. Известен концертный номер Лавровского танатологической направленности для Московского хореографического училища «Солдат и смерть».
Артисты балета И. А. Колпакова и Ю. В. Соловьёв подготовили номер «Инфанта». По сюжету Паж влюблён в Инфанту, но он не вправе любить королевскую дочь, которая сама не свободна в чувствах. Их любовь обречена умереть. «Инфанта» стала последней работой танцовщика, номер был посвящён безвременному уходу Соловьёва из жизни. Этот номер-реквием стал одним из вариантов балетной формы.
М. М. Плисецкая спокойно, сдержанно относилась к смерти, не признавалась в своем страхе перед ней. Приводит образ гоголевских «летающих гробов» [10, с. 20, 31]. Она обращает внимание на предсказание смерти балерины В. В. Кригер, которое не сбылось. В одном из концертных номеров Плисецкая танцевала партизанку, убивавшую фашиста. Немец корчится и замирает. Балерина поднимается во весь рост и сбрасывает балахон [10, с. 90, 142]. В «Хованщине» (постановка С. Г. Кореня) танцовщица изображает молодую невольницу, которая кинжалом убивает мятежного князя Хованского.
М. А. Лиепа, ребёнок войны, близко видел смерть. В день смерти матери, танцовщику пришлось танцевать на сцене, не прерывая спектакля. О последних словах Лиепы ничего не известно. Однако сохранилась его фраза, ставшая названием книги, вышедшей после его неожиданной смерти: «Хочу танцевать сто лет». Он танцевал в балете «Жизель» партию Альберта, который падает на мёртвое тело возлюбленной. Такая трактовка показалась артисту достоверной. В других же трактовках Альберт покидает сцену после гибели Жизели вместе с вельможами [7, с. 97]. Отстранение от большого театра танцовщик пережил как «маленькую смерть». Его Гамлет размышляет о смерти, мести и смысле жизни. Неисполненной осталась партия царя Соломона, который пережил свою Суламифь, в балете Б. Я. Эйф-мана «Легенда о царе Соломоне».
Современный балетмейстер Б. Я. Эй-фман предложил в 1991 году новый жанр хореографической миниатюры – реквием. И. А. Марков танцевал партию Юноши, а И. В. Зырянова партию Девушки. Таким образом, в балете были представлены мужская и женская интерпретации отношения человека к смерти [13, с. 604]. Скорбь, как реакция человека на смерть, явилась художественной перекодировкой знака жизни, получившего углублённое содержание. Затем, партнёры встретились в другом балете Эйфмана – «Мастер и Маргарита», соответственно в партии умершего и воскресшего Иешуа и желающей бессмертия Маргариты.
Отечественный балет на протяжении всей своей истории демонстрирует танатологическую тенденцию. Смерть изображается в разных видах и масштабах. Переосмысление фабулы старых балетов отображает динамику взглядов на жизнь и смерть. Бесконечное число хореографических текстов складывается из ограниченного набора образов и знаков Танатоса – Смерти. Создание новых текстов в таких условиях можно рассматривать как овладение способом кодирования смыслов прекращения жизни, но не на уровне индивида, а на уровне определенной социальной группы. Такое соображение предопределяет образы героев, которые не только живые люди, а типы. Хореографический текст идёт не от героев, которые даже умирая побеждают, а от символической реальности. Схема продолжения подвига превращает живого человека в своеобразный знак памяти, задаваемый идеологическим кодом и визуальным кодом восприятия. При анализе балетных текстов выявлены и описаны различные образы Та- натоса, знаки игры, состязания со смертью, знаки победы над смертью, бессмертия, знаки скорби, как следствия смерти, знаки приближения Танатоса, знаки присутствия Танатоса. Знаки отсутствия смерти можно отнести к классу нулевых знаков. Смерть – экзистенциальная проблема для танцовщика, зрителя в мире образов и символов. Изображение Танатоса в балете представляет собой взаимодействие эстетической, коммуникативной и познавательной функции.