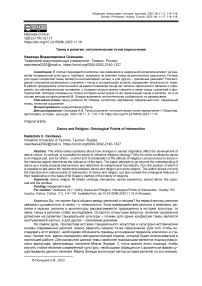Танец и религия: онтологические точки пересечения
Автор: Осинцева Н.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимаются вопросы: как изменения в сакральной догматике влияют на развитие танцевальной культуры и, наоборот, возможно ли влияние танца на религиозную идеологию. Почему для одних конфессий танец является неотъемлемой частью, а для других - греховным деянием? Рассмотрение отношения религиозного сознания к танцу в историческом аспекте определяет актуальность темы. В работе предпринята попытка выйти за рамки понимания танца как телесно-физического явления и определить его метафизические основания, с позиции которых можно говорить о связи танца с религией и проторелигией. Автором показаны не только историко-культурные точки пересечения танца и религии, но и на основе метода истории религий М. Элиаде выявлены онтологические особенности их взаимосвязи.
Танец, религия, м. элиаде, онтология, иерофания, сакральный опыт, сакральный танец, телесное и духовное
Короткий адрес: https://sciup.org/149144287
IDR: 149144287 | УДК: [2+793.3]:111 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.16
Текст научной статьи Танец и религия: онтологические точки пересечения
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия, ,
,
Казалось бы, что может быть общего между религией и танцем? На первый взгляд, религия связана с духовностью, а танец – с телесностью. Если взаимодействие религии и живописи, религии и музыки, религии и архитектуры рассматривается традиционно в истории культуры, то связь танца и религии слабо исследована. Остаются открытыми вопросы: влияние сакральной догматики на развитие танцевальной культуры – почему для одних конфессий танец является неотъемлемой частью, а для других – греховным деянием.
На самом деле, просмотрев историю танцевального искусства и культурно-исторические основы современных религий, можно заметить немало точек пересечения. Для того чтобы исследовать этот вопрос, необходимо обозначить границы в понимании терминов «религия» и «танец». Кроме того, важно определить методологический подход, который будет использоваться в настоящей работе. Для раскрытия данной темы наиболее подходящим является подход румынского философа, религиоведа, писателя Мирча Элиаде. С точки зрения этого подхода, чтобы изучить любое явление современной культуры, необходимо обращаться к архаичным фазам существования данного явления. Мирча Элиаде использует метод истории религий, по его мнению,
это общая история человеческого духа. Метод истории религий включает в себя и феноменологию, и герменевтику.
Румынский исследователь понимает религию не как веру в бога, богов или духов, а как «переживание сакрального», разговор об истине и о бытии. М. Элиаде связывает религию с глубокими экзистенциальными переживаниями, с опытом выхода в трансцендентные слои, с личным опытом. Для М. Элиаде религиозный человек – это человек как таковой. Нельзя понять смысл жизни человека, его особое положение во вселенной, если не обратиться к истокам, к архаическим фазам религиозного опыта (Элиаде, 1999: 182).
Что касается понимания границ термина «танец», то здесь может быть два пути рассмотрения: 1) танец как феномен культуры; 2) танец как онтологический феномен. В истории культуры мы можем видеть различные виды, стили, направления танца; их появление и развитие коррелирует с другими универсалиями культуры. Например, народный, классический, светский, социальный, спортивный, терапевтический, сакральный (вся танцевальная практика, которая использовалась для слияния с богом, абсолютом для достижения измененного состояния сознания) и др.
Религиозные догмы в такой же степени влияли на танец как элемент культуры, как и на живопись, архитектуру, моду в одежде, образование, науку и т. д. В истории западной культуры эта корреляция религиозного мировоззрения и танцевальной культуры очевидна в смене западноевропейских эпох. В Древней Греции с политеизмом и культом красоты человеческого тела развивался танец, подчёркивавший достоинства и добродетели человека. Хороводы, змейки в рисунках танца, возвышенные движения рук, ровная осанка выражают ценность свободы и единства танцующих. Почти все древнегреческие боги были антропоморфны и эстетически привлекательны, потому и в танцевальной пластике можно увидеть движения, подчеркивающие красоту человеческого тела, этику и эстетику человека.
Религиозное мировоззрение эпохи Средневековья кардинально меняет доминанты в искусстве: от антропоцентризма к идеализму. Дуалистичность пронизывает средневековую культуру – оппозиция души и тела, рая и ада, града земного и града небесного, добра и зла, светской и «низовой» культуры и др. Так и в танцевальной культуре наблюдается расслоение: появляется светский танец, состоявший из шествий, демонстрации костюмов, смены геометрических рисунков, и народный танец как часть карнавально-смеховой культуры (М. Бахтин), где активно используются физические возможности человеческого тела (скоморохи, канатные плясуны, балаганные артисты).
Эпоха Возрождения с раскрепощением человеческого интереса к изучению и освоению природы провозгласила ценность антропоцентризма, однако не в контексте античного идеала, а в контексте смелой творческой личности, с долей высокомерия, сарказма. Танец в этот период активно вплетается в светский этикет и становится частью светской жизни, средством социальной коммуникации. Именно через танец придворные дамы и кавалеры могли проявить свои личностные качества, свою индивидуальность.
В XVII веке, в век эпохи просвещения и разума, когда авторитет и контроль церкви существенно слабеет, появляется первое в западноевропейском обществе профессиональное учебное учреждение по танцу. В 1661 году по приказу французского короля Людовика XIV открывается Королевская академия танца. Пьер Бошан, директор и главный балетмейстер Академии, подчинил танец рациональным правилам, он одним из первых начал разрабатывать терминологию, позиции ног и рук, положения тела в пространстве, теорию танца, что сохранилось во многих танцевальных школах вплоть до сегодняшнего дня. В Новое время теоцентризм мировоззрения сменился рационализмом. Термин «хореография» появился в XVIII веке (расцвет сциентизма), когда мировоззрение становится наукоцентричным как никогда. Научные методы формализации, описания, моделирования, анализа, синтеза применяются и к танцевальной культуре, то есть профессиональный танец опирается на научный подход и рациональные принципы, высвобождаясь от религиозных ограничений.
Вторая половина XIX – начало XX веков связано с поиском альтернативных иррациональных смыслов, и танец модерн, как ни что другое, иллюстрирует эти поиски, подвергая резкой критике догматы классического танца. В XX веке западноевропейское общество наполнено альтернативными мировоззренческими концепциями: социальными, политическими, эстетическими, философскими, научными. Как и вся сфера искусства, в этот период танец выходит из-под зависимости от религиозного сознания.
Статья А.В. Амашукели и Т.А. Акиндиновой посвящена глубокому анализу динамики отношения христианского сознания к танцу. Авторы приводят цитаты из текстов Библии, отмечая в Ветхом Завете положительное отношение к танцу, прославляющего бога. Кроме того, «танец в Ветхом Завете рассматривается и как часть религиозного праздника» (Акиндинова, Амашукели, 2007: 72). Изменения в трактовке бога «в Новом Завете повлияли на понимание стиля танца» (Акиндинова, Амашукели, 2007: 72). В обыденной жизни «христиане танцуют в подражание святым и ангелам, водящим хороводы в блаженном райском мире или, например, выражают в танце идею единения апостолов вокруг Христа» (Акиндинова, Амашукели, 2007: 73). В сакральной же сфере раннего средневековья практиковали литургические танцы и процессии. Например, до сих пор в городе Эхтернах (восточная часть Люксембурга) проходит танцевальное шествие с 1100 года. Процессия проводится ежегодно в День воды в честь святого Виллиброрда, монаха и основателя аббатства Эхтернах, почитаемого за его миссионерскую деятельность. Несмотря на противодействие церкви из-за присутствия в шествии языческих элементов, процессия распространилась на весь регион и в ней принимали участие до 8000 человек. Начиналось шествие от реки Зауэр, с проповеди священника, затем музыканты, танцоры и паломники направлялись через весь город к церкви, танцуя при этом особым образом. Заканчивалось шествие службой в базилике. От поколения к поколению передавалась традиция христианского танцевального шествия. Эта танцующая католическая процессия была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО1.
Продолжая перечислять примеры литургических танцев, нельзя не упомянуть об эфиопском традиционном христианском танце на Пасху. Для прихожан танец выступает формой молитвы, способом выражения радости при восхвалении бога. В некоторых христианских сектах пятидесятников и харизматиков используется экстатический ритуальный танец. К этому же ряду примеров использования танца религией в сакральной сфере относится суфийский танец дервишей.
Таким образом, не смотря на перечисленные примеры существования танца в сфере сакрального, в истории христианской культуры танец преимущественно редко включался в ритуальную практику. Что качается отношения христианской религии к танцу в обыденной сфере, то, по мнению А.В. Амашукели и Т.А. Акиндиновой, «постепенное нивелирование онтологической оппозиции духовного и телесного, а также тенденция усиления целостного восприятия человека… предопределили пути дальнейшего развития танца в христианской традиции» (Акинди-нова, Амашукели, 2007: 74). Танец, как феномен культуры, определенным образом вплетён в культурную парадигму всей эпохи, в танце всегда проявляются символические и аллегорические смыслы, сформированные общей картиной мира.
Не менее интересным является рассмотрение второго аспекта понимания танца как онтологического феномена. Когда мы говорим об отношении религии к танцу, важно не смешивать понимание танца как такового и стиль, манеру исполнения, светскую уместность и пр. То есть мы рассматриваем танец до его деления на исторические типы, стили, направления. Важно рассмотреть танец как таковой, на том уровне, где можно выделить его онтологические основания, которые как раз находятся на пересечении духовной и эмпирической реальности. То есть мы рассматриваем танец не как явление культуры, не как физическое перемещения тела в пространстве. В онтологическом смысле в танце тело становится символическим, в танце отражается момент слияния объективной духовности и субъективной, и реакция тела является результатом этого слияния.
М. Элиаде говорил об исторической обусловленности жизни человека, то есть человек всегда прибывает в некой исторической ситуации, но при этом есть такие моменты, которые превосходят это историческое существование: сон, бодрствование, меланхолия, равнодушие или эстетическое наслаждение. Это может быть состояние влюбленности или состояние молитвы, но оно позволяет выйти из исторического времени и приобщиться к вечному времени, к вертикальному измерению жизни (Элиаде, 1999: 168). Одной из таких ситуаций может быть танец. Танец как таковой обладает потенциалом, чтобы человек мог «выйти» из исторического времени в некое иное, неисторическое (искаженное) время. И это совершенно не зависит от физических навыков, профессионального опыта, стиля, направления танца. Слова А. Бадью подтверждают мысль, что танец – это вневременное явление: «Танец подчиняется пространству, а не времени» (Бадью, 2014: 68).
Танец обладает возможностью выражать трансцендентное (свобода, кураж, задор, единение, радость), переживание этих состояний нельзя понять извне, но только через внутренней опыт. В народно-сценических постановках балетмейстеры очень успешно выражают в художественном образе этнический этос: темпераментное испанское фламенко, зажигательная итальянская тарантелла, задорный русский перепляс. Это хорошие примеры того, как в танце проявляется трансцендентное через имманентное, как дух народа, личности, события может явиться в пространстве вне времени.
Со времен архаичной культуры танец был неотъемлемой частью ритуального опыта переживания сакрального. Через танец первобытные люди приходили к экстатическому состоянию, к выходу от профанной реальности к сакральной. М. Элиаде выделяет оппозицию: профанное и сакральное. В профанной реальности живут суетные люди, в сакральной реальности – истинные люди. По мнению М. Элиаде, человек хочет преодолеть свое эмпирическое состояние и вернуться к состоянию божественного (назад к истокам), то есть вот этого вертикального вечного времени. И танец - один из способов этой трансформации духовного состояния.
М. Элиаде верил, что каждый человек потенциально способен пережить сакральный опыт. И нам видится, что каждый человек потенциально способен к танцу, который является, используя выражение А. Бадью, «опространствливанием духа и ничем более» (Бадью, 2014: 70). Психология утверждает, что по уровню развития сознание ребенка схоже с сознанием архаичного человека, в связи с этим, интересно обратить внимание как танцуют дети. Им не нужны профессиональные навыки, растяжка, шаг, позиции, но мы всегда четко можем определить, когда ребенок танцует, потому что он меняет свое состояние, «опространствливает» свое настроение. Используя особую траекторию движений, танцующий человек попадает в состояние, когда он не работает, не играет какие-либо социальные роли (в данном случае мы не имеем ввиду профессиональную деятельность танцовщиков), но он просто проживает личный опыт прикосновения к трансцендентному.
Опыт священного, опыт разделения вещей на реальные и нереальные является, по мнению М. Элиаде, своего рода экзистенциальным маркером бытия человека. И танец можно назвать одним из экзистенциальных состояний человека. М. Элиаде утверждал: «И вот, что прежде всего: думая о священном, не надо сводить его только к божественным фигурам. Священное не подразумевает веру в бога, богов или духов. Оно, повторяю, есть опыт некой реальности и источник осознания бытия» (Элиаде, 1999: 195). Конечно, за сотни тысячелетий танец изменил свою форму, обрел новые функции (в современной цивилизации) эстетическую, релаксационную, коммуникативную, спортивную и т. д. Но при этом базовая сущность танца никуда не исчезла - опыт некой реальности.
Удивительно, но мы всегда можем определить, когда человек танцует, а когда нет. Почему? Даже игру мы иногда ошибочно принимаем за истину. Что отличает танцевальные телодвижения от любых других? Например, свобода, но не физическая, не социальная, а другого порядка, решительность - льготные траектории движения. В танце тело человека несет не физические функции, а символические. Оно в этот момент принадлежит не только самому человеку, а является своего рода символическим проводником. Согласно М. Мерло-Понти: «загадочность тела - оно одновременно видящее и видимое» (Мерло-Понти, 1992: 14). Танец делает видимым бытие тогда, когда обычное заурядное зрение полагает невидимым. В народном танце мы видим «дух этнической культуры». Феноменология тела М. Мерло-Понти не противоречит истории религий М. Элиаде, когда посредством иерофании можно увидеть нечто священное, хотя бы на миг обрести доступ к высшим слоям бытия.
М. Элиаде вводит термин «иерофания» (от греч. lepog - священный, фамш - светоч, свет), для исследователя это проявление священного, это как нечто священное, предстающее перед нами. М. Элиаде определил иерофанию очень широко, не ограничивая христианским контекстом. Иерофании могут быть выражены множеством форм, это могут быть символы, мифы, а также сверхъестественные существа, явления, которые невозможно прочитать, то есть понять сразу, которые необходимо дешифровать, объяснить их смысл. Глубокое понимание этих явлений обязательно обогатит духовно сознание современного человека. Даже для зрителя требуется интеллектуальное усилие при интерпретации танцевального произведения, и глубина понимания будет зависеть от способности видеть иерофании. В этом смысле танец тоже является формой иерофании, проявлением сакрального, даже если сам человек этого не осознает. Танец создает некий прорыв от профанного к сакральному или хотя бы «подсвечивание» трансцендентной реальности.
Таким образом, помимо историко-культурных точек пересечения религии и танца есть и онтологические. Во-первых, у всех людей есть потенциальная (априорная) способность переживания сакрального опыта и способность танцевать. Человек на интуитивном уровне может делать определенные движения без специальных профессиональных навыков. Во-вторых, танец и религиозные способы переживания сакрального есть экзистенциальные состояния человека. Танец можно рассматривать как форму иерофании.
Список литературы Танец и религия: онтологические точки пересечения
- Акиндинова Т.А., Амашукели А.В. Эволюция танца в истории христианской культуры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия, политология, социология, психология, право, международные отношения. 2007. № 3. С. 71-80. EDN: RUCAMD
- Бадью А. Малое руководство по инэстетике / пер. с фр. Д. Ардамацкой, А. Магуна. СПб., 2014. 156 с.
- Мерло-Понти М. Око и дух / пер. с фр. М., 1992. 61 с.
- Элиаде М. Испытание лабиринтом. Интервью Клоду-Анри Роке // Иностранная литература. 1999. № 4, С. 151-208.