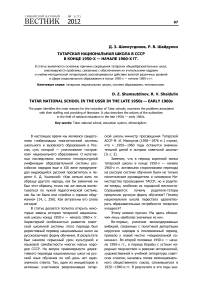Татарская национальная школа в СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
Автор: Шамсутдинов Динар Загитович, Шайдулин Рафаиль Валеевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Психология и педагогика
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются основные причины сокращения татарских общеобразовательных школ, анализируются проблемы, связанные с обеспечением их учительскими кадрами и учебно-методической литературой, рассматриваются действия властей различных уровней в сфере национального образования в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
Татарская национальная школа, система образования, этнонигилизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14113629
IDR: 14113629
Текст научной статьи Татарская национальная школа в СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
В настоящее время мы являемся свидетелями глобализации многоэтничной системы школьного и вузовского образования в России, суть которой — уничтожение «островков» национального образования. О негативных последствиях политики этнокультурной унификации образовательной системы российских народов еще в XIX веке предупреждал выдающийся русский просветитель и педагог К. Д. Ушинский: «Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно так же нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдуманна» [14, с. 256]. Как актуальны его слова сегодня!
В статье делается попытка открыть некоторые завесы истории татарской национальной школы конца 1950-х — начала 1960-х гг. Характерной особенностью развития советской школьной системы этого периода был директивный перевод национальных школ на русскоязычную форму обучения. В результате был нанесен серьезный урон культурной и языковой самобытности многих малых народов СССР. На вопрос правомерности директивного перевода национальных школ на русский язык обучения по сей день нет однозначного ответа. Так, один из инициаторов и активных участников реорганизации татар- ской школы министр просвещения Татарской АССР М. И. Махмутов (1958—1976 гг.) считал, что «…1959—1960 годы останутся знаменательной датой в истории советской школы» [9, с. 3].
Заметим, что в период коренной ломки татарской школы в конце 1950-х — начале 1960-х гг. активными сторонниками перехода на русскую систему обучения были не только политические руководители и чиновники Министерства просвещения ТАССР, но и родители-татары, особенно из городской местности. Спрашивается: почему родители-татары предпочли русскую форму обучения? Почему национальная школа перестала удовлетворять образовательные потребности татарских учащихся?
Этому немало причин. Мы здесь обозначим лишь наиболее значимые из них.
Во-первых, усиление великодержавных амбиций, связанных с политикой депортации нерусских народов в послевоенный период, привело к новой чистке «национальной конюшни». Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг., в период борьбы с устным народным творчеством и ревизии исторической, художественной и учебной литературы советских этносов, началась ломка межнационального общественного союза, сложившегося в 1920—1940-е гг. В результате в эти годы зна- чительно уменьшилось внимание, уделяемое подготовке учительских кадров и руководящих работников для национальных школ. Так, например, в 1958 году педагогические учебные заведения Татарстана подготовили всего 253 учителя для татарских школ, что было в 3 раза меньше, чем в 1956 году. Вследствие острой нехватки учительских кадров в 1957 году в татарские школы было принято 279 человек без педагогического образования [4, с. 17]. Так, по неполным данным 1958 года, 26 % учителей не имели соответствующего образования; 186 человек имели незаконченное среднее педагогическое образование [16, л. 39]. Кроме того, в Татарстане при назначении директоров средних и семилетних школ не всегда соблюдалось директивное указание Министерства просвещения РСФСР, одним из пунктов которого было наличие диплома об окончании высшего учебного заведения. К примеру, в 1958 году в Татарстане 32 директора татарских средних школ имели незаконченное высшее образование, 2 — среднее; 2 директора семилетних школ — среднее педагогическое образование [16, л. 38—39]. Не выполнялось и другое министерское указание, запрещающее назначать учителями начальных классов лиц, окончивших 10 классов.
Одновременно в этот период меньше внимания стало уделяться разработке и изданию новых учебников и учебных программ для национальных школ. Вследствие острой нехватки учебно-методической продукции многие татарские школьные заведения вынуждены были использовать старые учебники и учебные программы, разработанные еще в 1930—1940-е гг. К тому же наблюдалось значительное снижение уровня учебно-методической литературы, предназначенной для татарских школ. Учебные планы часто поступали в школы с большим опозданием. К примеру, в Татарстане учебный план 1957/58 учебного года был спущен лишь во второй половине сентября, в результате многие татарские школы испытывали острый недостаток в методическом и программном обеспечении, а учителя и ученики — в учебниках [15, л. 62]. Это было связано с некоторыми политикофинансовыми особенностями подготовки и издания учебно-методической литературы для татарских школ: она финансировалась по остаточному принципу, сначала выполнялись заказы русских учебных заведений, затем на- циональных. В результате в 1958/59 учебном году национальные школы республики большим опозданием получили от «Татарского книжного издательства» учебники для 8—10 классов по татарской литературе, хрестоматии и программы по родному языку для 5—7 и 8—10 классов. Многие из них были составлены в спешке, написаны на трудном и малопонятном языке, а также имели серьезные недостатки идейно-содержательного, учебнометодического, дидактического, терминологического и эстетико-оформительского плана [8, с. 6—8]. Кроме того, в татарских школах наблюдалась острая нехватка оригинальных учебников по физике, математике и другим предметам, написанных на родном языке. В результате во многих школах пользовались переводными учебниками, разработанными для русских учащихся, которые, по мнению министра М. И. Махмутова, были переведены «слабым, несовершенным языком» [10, с. 11]. Из чего он делал делал вывод о необходимости скорейшего перехода по этим предметам на русскоязычное обучение [11, с. 5]. Тогда многие министерские функционеры системы образования, в том числе М. И. Махмутов, «пели песню» великодержавных идеологов строительства «коммунистического общества», затем «развитого социализма» и сильно не утруждали себя вопросами разработки более совершенных учебников для национальных школ.
Другим немаловажным фактором, усложнившим учебный процесс в национальных школах, было значительное отставание в области разработок терминологических и толковых словарей национальных языков малых этносов СССР. Как известно, интенсивность усвоения научных знаний напрямую связана с развитием терминологического словообразования национальных языков; термины составляют значительную часть лексического богатства языка и выступают семантическим ядром научной лексики. Однако в действиях советского руководства эта аксиома приобретала определенную державную (русификаторскую) направленность. Так, в конце 1940-х — 1950-е гг. проводились кампании по чистке национальных языков от западных и восточных заимстований, которые развивались в форме принуждения к «добровольному» переводу нерусскоязычной научной и учебнометодической лексики на русскую терминоло- гическую основу. С целью интенсификации этого процесса в 1959 году в Москве было созвано Всесоюзное совещание по терминологии, во время работы которого языки народов СССР были разделены на 3 группы. К первой группе были отнесены языки титульных народов союзных республик, в том числе русский, украинский, белорусский, латышский, литовский, эстонский, широко использовавшиеся во всех сферах жизнедеятельности. Ко второй группе — языки, использовавшиеся только в рамках средней школы: татарский, башкирский, чувашский, каракалпакский, мордовский и др. К третьей группе — языки, использовавшиеся только в рамках трех-, четырехклассных начальных школ: алтайский, тувинский, хакасский и языки народов севера [1, с. 57]. В результате произошло значительное ущемление национальных языков малых народов СССР. Все это в конечном итоге привело к сужению их роли до школьно-бытовой сферы. К тому же директивные установки советского руководства конца 1950-х — начала 1960-х гг., нацелившие местных министерских чиновников образовательной сферы на перевод национальных школ на русский язык обучения, еще больше затруднили процесс разработки татарской научной и учебно-методической терминологии.
Таким образом, татарский язык, как и языки многих малых народов СССР, оказался на «прокрустовом ложе» русского языка. Советское руководство посчитало для этнокультурного развития малых народов страны вполне достаточным разработку и использование лишь тех терминов, в которых была необходимость в учебном процессе средних и начальных школьных заведений, отчасти — в работе местных национальных средств массовой информации. При этом следует обратить внимание на некоторые особенности разработки новых терминов для языков малых народов: во-первых, они строились главным образом на основе терминологии русского языка; во-вторых, большую часть этих терминологических наработок составляли заимствованные русскоязычные слова общественно-политического характера, широко использующиеся в советской державной языковой практике, что подтверждает анализ терминологических, русско-татарских и других словарей И. А. Абдуллина, Ф. А. Ганиева, Н. Н. Фаттаховой, М . Б. Хайруллина, Р. Р. Шамсутдинова и др. Для боль- шей наглядности приведем ряд примеров из «Русско-татарского словаря» (1984 г., редактор — доктор филологических наук Ф. А. Ганиев): «коллективизация» — «коллективлаш-тыру»; «культурно-массовый» — «культура-масса»; «политинформация» — «политинформация»; «политэкономия» — «политэкономия»; «раскулачить» — «раскулачить иту»; «революционер» — «революционер», «рево-люцияче» [7, с. 221, 240, 440, 527, 538].
Во-вторых, в 1950—1960-е гг., в условиях бурно развивающейся урбанизации и интенсивной интеграции татар в русское этнокультурное пространство усилился процесс отрыва от национально-культурной среды и сужения сферы применения их родного языка. С расширением возможностей русскоязычных средств массовой информации (кино, радио и телевидения) в СССР началось интенсивное разрушение этнокультурных границ и этнического архетипа татарского народа. Все это в конечном итоге привело к формированию в самосознании татар (особенно татар-горожан) этнонигилизма (гипоидентичности), выражавшегося в пренебрежении к родному языку, культуре, истории, традициям и обрядам, ощущении этнической неполноценности, ущемлении и стыде за представителей родного этноса. Учиться на родном языке стало непрестижно, татарскому языку в национальных школах перестали уделять должное внимание. Работники народного образования, учителя-предметники начали относиться к родному языку как к второстепенному.
В результате у родителей и у молодежи начало формироваться негативное представление по отношению к родному языку, и он стал рассматриваться как фактор, тормозящий образовательный процесс в школах. Многие родители-татары, ревностно заботясь о будущем своих детей, в панике начали переводить их из национальных школ с родным языком в школы с русскоязычной формой обучения. В результате произошло значительное сокращение татарских школ и количества учащихся. Если в 1947/48 учебном году в Татарстане на родном языке обучалось 95 % детей татар, то в 1957/58 — только 70 %; в Казани — всего лишь 16,8 % [16, л. 55]. Только за период 1950—1958 гг. в республике число татарских школ уменьшилось на 13 % (с 1741 до 1515), учащихся — на 35,6 % (с 197 до 127 тысяч человек) [5, с. 10].
В этом процессе негативную роль сыграло и отсутствие должного внимания к развитию иноязычных факультетов, отделений и курсов по подготовке национальных кадров на родном языке в системе высшего и среднепрофессионального образования. Во всех вузах, техникумах и училищах РСФСР обучение велось в основном на русском языке. Исключение из этих правил составляли лишь немногочисленные высшие и средние педагогические учебные заведения, в специальных образовательных структурах которых готовили главным образом учителей для средних и начальных школ малых народов.
К тому же вследствие плохо поставленного учебного дела в национальных школах их выпускники значительно уступали в образовательном плане своим сверстникам той же национальности, обучавшимся в русских школах. В результате вступительные экзамены в вузы, техникумы и училища, проводившиеся на русском языке, становились непреодолимой преградой для выпускников татарских школ. Знание русского языка значительно облегчало татарам поступление в эти учебные заведения. Поэтому среди выпускников татарских школ при поступлении в вузы наблюдалась более выраженная аграрная и педагогическая ориентация. Причем многие из них поступали в вузы по специальным направлениям властных инстанций или через подготовительные курсы рабочих факультетов.
Почти такие же явления происходили и в дошкольных учреждениях Татарстана. В 1958 году в республике имелось 540 детских садов, в том числе 108 татарских [16, л. 49]. В 1957 году на татарском языке не было издано ни одной книги для детских садов [16, л. 50]. Как мы видим, и в этой области были допущены серьезные ошибки, приведшие к второ-степенизации роли национальных дошкольных учреждений в деле обучения и воспитания детей на родном языке. Встречались случаи, когда в детских садах запрещалось говорить на родном языке, тем самым прерывалась связь поколений.
Нельзя забывать о том, что именно в детсадовском, отчасти в школьном возрасте, дети на эмоциональном уровне замечают внешние расовые отличия людей, затем причисляют себя к тому или иному этносу, тем самым самоутверждаются в многоэтничной среде. Как пишут ученые, в процессе коллектив- ной деятельности и общения дети, прошедшие этап этнической самоидентификации, лучше усваивают определенные нормы взаимоотношений со сверстниками другой национальности. Впоследствии при правильной организации педагогических условий эти нормы закрепляются как устойчивые нравственные качества личности [18, с. 7].
Массовое сокращение национальных школ в 1950-е гг. было теоретически необоснованным и практически вредным явлением, поскольку оно создавало ложное представление о роли русского языка и тем самым сужало сферу применения родного языка до кухонного уровня. Главный фактор менацио-нального согласия и сотрудничества — родной язык — отодвигался на задний план.
Такие негативные толки о роли родного языка во второй половине 1950-х гг. в Татарстане будоражили умы не только местных политиков и министерских чиновников, но и широкую татарскую общественность. Это стало предметов обсуждения и на политическом уровне. Следует отдать должное первому секретарю Татарского обкома С. Д. Игнатьеву, по инициативе которого в мае 1958 года был созван Пленум Татарского обкома КПСС по вопросу о «Состоянии и мерах улучшения работы татарских общеобразовательных школ». На нем обсуждались вопросы, связанные с фактами нарушения обучения татар на родном языке, и наметились тенденции на сохранение татарского языка. «При его поддержке в решениях пленума были предусмотрены конкретные меры по комплектованию татарских школ высококвалифицированными педагогическими кадрами и учебниками, повышению уровня преподавания родного языка и литературы, а также по расширению подготовки специалистов народного хозяйства, владеющих родным языком …» [3, с. 528].
Решение этого пленума в большей части осталось не реализованным, оно было перечеркнуто законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (декабрь, 1958 г.), предоставившим родителям «право» выбора языка обучения для своих детей. Безусловно, этот закон, с образовательной точки зрения, имел прогрессивное значение: он отвечал назревшим потребностям развития научно-технической революции. Объективно этот закон предусматривал совершенствова- ние учебно-воспитательного процесса и материально-технической базы советской школьной системы в контексте возрастающих потребностей народного хозяйства. Причем этот план преобразования школьной системы мог быть осуществлен только путем первоочередной материальной поддержки национальных школ и коренной ломки представлений относительно языковых потребностей малых народов СССР.
Разумеется, хрущевское правительство, воодушевленное идеалами скорейшего строительства «коммунистического общества» и создания единого образовательного и этнокультурного пространства, не способно было встать на такой путь. В результате право выбора языка обучения для своих детей было отдано на откуп чиновникам от образования, которые при помощи административных рычагов начали реализовывать его в жизнь в своем ведомственном понимании, как право массового перехода учащихся-националов на русский язык обучения с 1 класса. Массовый перевод учащихся национальных школ на русскую сетку обучения проводился повсеместно. Во многих национальных республиках и административных областях СССР началось интенсивное вытеснение татарского языка из школьных учреждений. В 1939/40 учебном году в стране было 1732 татарских школы, где обучалась 281 тысяча учеников (49 % от общей численности учащихся), в 1959/60 учебном году — 138,5 (27 %), в 1980/81 учебном году — 104 (18,6 %) [6, с. 152]. В 1958—1967 гг. в Татарстане число татарских школ сократилось на 7,6 % (с 1515 до 1400) [6, с. 10]. В 1960—1970-е гг. Министерство просвещения Татарстана под предлогом укрупнения («оптимизации») школ ликвидировало почти все малокомплектные школьные учреждения. Только в 1966—1970 гг. в республике было закрыто 446 школ [2, с. 101]. В результате ряд районных центров республики (например, Атнинский и Нурлатский) остались без татарских школ [17, л. 7]. Но тогдашний министр просвещения М. И. Махмутов призывал директоров и учителей татарских школ на этом не останавливаться и интенсивно перенимать опыт Заинской, Агрызской, Таканыш-ской школ, перешедших на русскоязычное обучение [10, с. 11]. Эта участь не миновала и татарские школы Казани, которая являлась центром средоточения национальной культу- ры и этнической элиты татар. К середине 1960-х гг. в городе осталось всего 5 татарских национальных школ: № 13, 26, 35, 80, 89, из них две — восьмилетки [13, с. 81]. К 1980-м годам в миллионном городе сохранилось всего лишь 2 татарские школы: одна — в Московском районе (№ 10), другая — в Советском (№ 16).
Положительным являлось то, что политика интенсивной русификации открыла татарской молодежи возможность для освоения российского этнокультурного пространства и самоутверждения в нем. Негативной стороной этой политики являлось ее одностороннее, однобоко утилитарное развитие, приведшее к сокращению сферы применения татарского языка до разговорного «кухонного» уровня. Все это в конечном итоге привело к уменьшению числа татар, считающих татарский язык родным (в 1926 г. — 99 %, в 1959 г. — 92 %, в 1970 г. — 89 %, в 1989 г. — 83 %) [6, с. 152]. К концу 1960-х гг. в Казани 15,2 % городского татарского населения общались только на русском языке [12, с. 250], где по переписи 1979 года проживало 52,2 % татар-горожан. К 1989 году 27,6 % нерусского населения Татарстана считало своим родным языком русский [4, с. 17]. По опросу, проведенному среди школьников Татарстана в 2005 году, на родном языке общались с учителями 10,7 %, с друзьями — 6 %, с соседями — 11 %, членами семьи — 28 % [6, с. 152]. В результате произошло значительное сужение роли родного языка в научно-образовательной и этнокультурной повседневности татар, особенно в молодежной, «засорение» языка русскими заимствованиями, обрусение значительной части татарского народа.
Таким образом, в конце 1950-х — 1960-е гг. национальная самобытность и суверенитет татарских школ, важнейшие базовые принципы как образовательной, так и национальной политики, были отданы на откуп политикам и чиновникам от образования. Политика реформирования татарской школы и придания ей державного этнокультурного характера привела к невосполнимым утратам как в языковом, так и в этнокультурном плане.
-
1. Вопросы терминологии (Материалы Всесоюзного терминологического совещания). М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. 231 с.
-
2. Гусак, Г. Н. Развитие начального образования в Татарской АССР в 1945—1985 гг. : дис.... канд. пед. наук / Г. Н. Гусак. Казань, 2001. 238 с.
-
3. Игнатьев С. Д. // Татарская энциклопедия. Казань : Ин-т Татар. энцикл. АН РТ, 2005. Т. 2 : Г—Й. 656 с.
-
4. Исаева, М. Н. Развитие среднего профессионального образования в Республике Татарстан / М. Н. Исаева. Казань : Центр инновац. технологий, 2005. 188 с.
-
5. Коммунист Татарии. Казань, 1958. № 6. С. 10.
-
6. Русификация // Татарская энцикл. Казань : Ин-т Татар. энцикл. АН РТ, 2010. Т. 5 : Р—С—Т. 736 с.
-
7. Русско-татарский словарь : ок. 47000 слов / Э. М. Ахунзянов, Р. С. Газизов, Ф. А. Ганиев [и др.] ; под ред. Ф. А. Ганиева. М. : Рус. яз., 1984. 736 с.
-
8. Совет мәктәбе. Казань, 1959. № 8. С. 6—8.
-
9. Совет мәктәбе. 1960. № 8. С. 3—11.
-
10. Совет мәктәбе. 1961. № 8. С. 7—12.
-
11. Совет мәктәбе. 1966. № 10. С. 2—7.
-
12. Социальное и национальное: опыт этносоцио-логических исследований по материалам Татарской АССР / редкол.: Ю. В. Арутюнян (отв. ред.) [и др.]. М. : Наука, 1973. 331 с.
-
13. Становление и развитие народного образования в городе Нижнекамске (1961—2003 гг.) / сост.: Н. Ш. Ахметшин [и др.]. Нижнекамск, 2004. 351 с.
-
14. Ушинский, К. Д. Педагогические соч. / К. Д. Ушинский ; сост. С. Ф. Егоров. М. : Педагогика, 1988. Т. 1. 416 с.
-
15. Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан (далее — ЦГАИПД РТ). Ф. 1030. Оп. 1. Д. 120.
-
16. ЦГАИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 122.
-
17. ЦГАИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 124.
-
18. Ядрихинская, Л. С. Воспитание культуры межнационального общения детей 5—8 лет в полиэтнической среде : дис.... канд. пед. наук / Л. С. Ядрихинская. Якутск, 1998. 188 c.
Список литературы Татарская национальная школа в СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
- Вопросы терминологии (Материалы Всесоюзного терминологического совещания). М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. 231 с.
- Гусак Г. Н. Развитие начального образования в Татарской АССР в 1945-1985 гг.: дис.... канд. пед. наук/Г. Н. Гусак. Казань, 2001. 238 с.
- Игнатьев С. Д.//Татарская энциклопедия. Казань: Ин-т Татар. энцикл. АН РТ, 2005. Т. 2: Г-Й. 656 с.
- Исаева М. Н. Развитие среднего профессионального образования в Республике Татарстан/М. Н. Исаева. Казань: Центр инновац. технологий, 2005. 188 с.
- Коммунист Татарии. Казань, 1958. № 6. С. 10.
- Русификация//Татарская энцикл. Казань: Ин-т Татар. энцикл. АН РТ, 2010. Т. 5: Р-С-Т. 736 с.
- Русско-татарский словарь: ок. 47000 слов/Э. М. Ахунзянов, Р. С. Газизов, Ф. А. Ганиев [и др.]; под ред. Ф. А. Ганиева. М.: Рус. яз., 1984. 736 с.
- Совет мәктәбе. Казань, 1959. № 8. С. 6-8.
- Совет мәктәбе. 1960. № 8. С. 3-11.
- Совет мәктәбе. 1961. № 8. С. 7-12.
- Совет мәктәбе. 1966. № 10. С. 2-7.
- Социальное и национальное: опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР/редкол.: Ю. В. Арутюнян (отв. ред.) [и др.]. М.: Наука, 1973. 331 с.
- Становление и развитие народного образования в городе Нижнекамске (1961-2003 гг.)/сост.: Н. Ш. Ахметшин [и др.]. Нижнекамск, 2004. 351 с.
- Ушинский К. Д. Педагогические соч./К. Д. Ушинский; сост. С. Ф. Егоров. М.: Педагогика, 1988. Т. 1. 416 с.
- Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан (далее -ЦГАИПД РТ). Ф. 1030. Оп. 1. Д. 120.
- ЦГАИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 122.
- ЦГАИПД РТ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 124.
- Ядрихинская Л. С. Воспитание культуры межнационального общения детей 5-8 лет в полиэтнической среде: дис.. канд. пед. наук/Л. С. Ядрихинская. Якутск, 1998. 188 с.