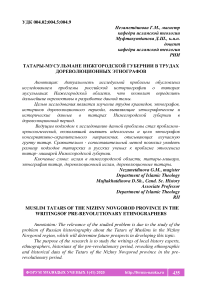Татары-мусульмане Нижгородской губернии в трудах дореволюционных этнографов
Автор: Незаметдинова Г.М., Муфтахутдинова Д.Ш.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 1 (41), 2020 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена исследованием проблемы российской историографии о татарах мусульманах Нижегородской области, что позволит определить дальнейшие перспективы в разработке данной темы. Целью исследования является изучение трудов краеведов, этнографов, историков дореволюционного периода, выявляющие этнографические и исторические данные о татарах Нижегородской губернии в дореволюционный период. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы стал проблемно-хронологический, позволивший выявить идеологемы и цели этнографов консервативно-охранительного направления, описывающих изучаемую группу татар. Сравнительно - сопоставительный метод позволил увидеть разницу подходов татарских и русских ученых к проблеме этногенеза татар- мишарей Нижегородской губернии.
Ислам в нижегородской области, татары-мишари, этнография татар, дореволюционный ислам, дореволюционные татары
Короткий адрес: https://sciup.org/140287180
IDR: 140287180 | УДК: 004.02:004.5:004.9
Текст научной статьи Татары-мусульмане Нижгородской губернии в трудах дореволюционных этнографов
Середины ХIХ века российское самодержавие поменяло национальную политику по отношению к нерусским народам от терпимой, к политике жесткой русификации с помощью образовательной системы с дальнейшей целью «полного слияния инородцев с русскими». В связи с такими планами остро встал «татарский вопрос». Татары - мусульмане, обладая своей системой образования, более высокой культурой, чем другие восточные инородцы, обладая развитым историческим и этническим самосознанием не только не хотели «русеть», но и распространяли свою идентичность на финно-угорские народы Поволжья и близкородственные тюркские народы (башкир, чуваш, казахов). Во вторую четверть ХIХ века остро встал вопрос отпадения крещеных татар в ислам. В связи с этим власть и миссионерские организации РПЦ срочно проводило меры ограничения влияния «наиболее фанатичных» казанских татар на перечисленные народы. Ученые ориенталисты вместе с преподавателями миссионерского отделения Казанской духовной академии срочно кодифицировали близкородственные к татарскому языки, и конструировали новые этнографические группы. Это особенно ярко проявилось в переводе православных богослужебных книг на крещено-татарский, башкирский и казахский языки. На казахский язык были переведены 33богослужебные книги (общим тиражом 42645 экземпляров), на башкирский язык 10 книг (тиражом 11000 экземпляров), на татарский 66 книг с общим тиражом 403 750 экземпляров.
Наиболее рельефно процессы конструирования языков и идентичностей отразились в трудах профессоров противомусульманского отделения Казанской духовной академии Н.И. Ильминского и Е.А.Малова. Малов крещеным татарам предписывал «не есть баранины, которая приносилась в жертву по магометанскому обряду, не совершать детям обрезания, не брить головы, не надевать тюбетейки, не носить татарских магометанских имен, особенно же не ходить в мечеть, в самом доме своем сделать христианскую обстановку, убрать с нар из переднего угла все пуховики (подушки) и перины, как свидетельство ленивой, плотской жизни магометанской, а поставить в переднем углу иконы, которые возносили ум и сердце живущих в доме и приходящих в него к небу и Богу, а не приковывали бы как те, к земле и греху» [1, с.138] .
12 мая 1878 г. Ильминский писал попечителю Казанского учебного округа: «в татарском языке... можно вывести нормальную, другую и коренную тюркскую орфографию; но это было противно нашей цели: я умышленно разсек связь татарского языка с другим тюркским и нынешним родственным наречием и взял нынешний язык крещеных татар Казанской губернии как факт изолированный, и поставил его в орудие духовного христианского образования крещеных татар так, как они говорят» [2, с.150].
Почти во всех этнографических работах, касающихся описания башкир, казахов, мишарей второй половины ХХ века итогом является мысль о слабой исламизированности этих народов. Далее высказывается надежда на их скорейшую русификацию по сравнению с «фанатизированными исламом казанскими татарами».
Профессор противомусульманского отделения Казанской духовной академии Ефимий Аалександрович Малов опубликовал в 1885 г. этнографический очерк о мишарях. Большая часть его работы состоит из анекдотических рассказов, демонстрировавших презрение мишарей и казанских татар друг к другу. Далее он делает «гениальное» открытие. Эта взаимная вражда, по уверениям Е.А.Малова, являлась доказательством того, что мишари ранее исповедовали христианство, она же позволяла надеяться на то, что в будущем их можно будет снова обратить в православие. Чтобы подкрепить мысль о различии между мишарями и казанскими татарами, Малов приводил свои наблюдения о разнице их физического облика и психологии: «Вообще мишари телосложением гораздо здоровее татар -мухаммедан. Тип лица у мишарей представляется более добродушным типом русского человека, чем типом надменного татаро-мухаммеданского лица». Хотя татары со снисхождением относились к мишарям, «на самом деле, - доказывал Е.А.Малов, - мишари гораздо умнее татар-мухаммедан: последние уклончивее и хитрее» [3, с.3 ] .
В научном плане работа Маловаценна описанием быта татар мишарей и сведениями о географии их расселения. Е. Малов поделился с читателями своими наблюдениями о татарах мусульманах проживающих в Нижнем Новгороде, в уездном городе Княгинино, в деревнях Яндовищи, Суксу, Ургу, Кочко-Пожарки, Куйсу.
Малов сообщает, что преданию казанских татар мишари первоначально жили в Нижегородской губернии, а потом рассеялись по разным другим местам. Автор приводит два татарских рассказа о том, что мишари в России «суть выходцы из Турции». И делает парадоксальный вывод, о том, что этими рассказами татары хотели приблизить к себе мишарей, и отделить их от русских.
Интересно его описание деревни Яндовищи. Здесь он выступает как либерал. «Деревня Яндовищи очень большая мухаммеданская и притом мишарская деревня. В ней четыре мечети, две школы, а также имеется в этой деревне Волостное правление, старшина здесь мусульманин - мишар Зайнетдин сын Мувлюм-Бирды; в настоящее время он служит уже вторую треть, человек очень умный и опытный. В деревне Яндовищах из четырех упомянутых мечетей три устроены по форме мечетей, находящихся в Российском государстве, а одна точно турецкая мечеть. Впрочем, мечеть, имеющая форму турецкую, очень обветшала. Жаль! Как было бы хорошо, если бы из мусульман нашелся богатый человек, который обновил бы эту мечеть. В этом и будущем свете была бы ему награда».
Далее он сообщает, сведения о происхождении мишарей от них самих. Указный мулла Ахсан из деревни Яндовищи Нижегородской губернии Сергачского уезда утверждал, что мишари пришли из Касимова, т.е. что «они составляют коренное Касимовское племя».
Буквально через год после опубликованного очерка Малова, в 1886 году выходит публикация А. С. Гациского с сакраментальным вопросом в самом названии статьи « Нижегородские татары — татары ли?» [4] . Анализируя работы В.А.Казаринова и Е.А.Малова, Гациский А.С. выдвигает фино-угорскую гипотезу происхождения мишарей. Он пишет, что до прихода русских существовала 3 этноса на территории Нижегородского края, а именно: мордва, черемес и татар.: «мордва живет в уездах нижегородском, княгининском, арзамасском, ардатовском, сергачском и лукояновском; татары- в сергачском, княгининском и васильском, и черемисы - в Заволжье, в уездах макарьевском и васильском».
Гациский А.С., в отличие от Малова не выражает ни каких надежд на быструю русификацию мишарей. «Татары нижегородские, пишет он, - как и в других местах, не проявляют никакой склонности к слиянию с господствующей нацией и постоянно устремляют свои взоры на Казань и Уфу, так как из Казани исходит весь печатный татарский свет, а Уфа служит местопребыванием высшего иерархического татарского учреждения – Оренбургского магометанского собрания с оренбургским муфтием во главе» [4, с.8] . После этого автор задается вопросом: «К какой же антропологической клеточке относятся наши нижегородские татары?». Ссылаясь на статью Казаринова «О мишярях в Чистопольском уезде и Казанской губернии» он дает следующий ответ: «Татарское население Казанской губернии принадлежит по происхождению своему, преимущественно к тюркскому племени; незначительная его часть называется мишарями; Нижегородские же татары вовсе не тюркского происхождения, а мишяри. У мишярей свой особенный язык, не вполне однородный с татарским языком» [4, с.9] . Таким образом, А.С. Гациский выдвинул гипотезу, что «мишяри – омусульманившиеся мещеряки».
В 1895 году выходит в свет еще одна публикация о мишарях. Это статья известного этнографа попечителя народных училищ В.К. Магницкого «Несколько данных о «мишарях» и селениях их в Казанской и Симбирской губерниях». Она предназначалась для руководителей «Первой всеобщей переписи населения Российской империи».
В.К. Магницкий в своей статье делится следующими данными об этногенезе мишарей: «Сами себя они (мишари) называют «мижарь» и считаются аборигенами данной местности. Их разговор я понимаю очень хорошо (понятно, татарский). По волосам и глазам их можно прийти к такому заключению, что они (мишари) финского племени (омагометанившаяся мордва), но только что они не понимают мордовского языка; по словам их наречие у них (мишарей) не похоже на мордовское».
Относительно перспектив ассимиляции мишарей он высказался так: «Я спрашивал (мулл): сильно ли русеют мишари? -Понятно, ответ на это последовал, что положительно - нет! К этому (муллы) еще добавили, что мусульмане никогда не русеют и что в мусульманство переходят другие народности, как например: чуваши и мордва» [5, с.12] .
Автор статьи предложил вниманию Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете список селений мишарей Чистопольского и Курмышского уезда Симбирской губернии. Данный список ему помогли составить местные юноши, а именно: 16-ти летний парень из деревни Ерыклы Чистопольского уезда Миргаяз Мухаммет-Вафа улы Бадиков, а второй - 33-х летний мишар дер. Собачий Остров (Сабачай) Курмышского уезда Хусаин Мухаммад улы Абубакиров. Труд написан на русском языке, но при этом названия сел приводится на старотатарском языке (с использование арабской графики).
В своем труде В.К. Магницкий описывает разницу между татарами Казанской и Симбирской губернии, отличительную особенность языка мишарей, их внешний вид и характер, но делает это, в отличие от Малова, в менее предвзятой форме.
К началу ХХ века среди казанских татар появляется татарская интеллигенция, окончившая русско-татарскую учительскую школу, одним из её выпускников был педагог, этнограф Гайнетдин Ахмеров. В 1903 г. он опубликовал в «Известиях ОАИЭ» очерк « О языке и народности мишарей».
Ахмеров впервые в российской историографии высказал мысль, что мишари представляют собой кочевую народность тюркской группы, переселившуюся в Поволжье, возможно даже раньше золотоордынской эпохи. Г.Н. Ахмеров подтверждал, что в языке мишарей встречается необычайно много русских слов, но отрицал какое-либо заметное финское влияние на язык, одежду или обычай этого народа. Вопреки уверениям Е.А. Малова, он заметил, что название «мишари» никогда не употреблялось самими этими людьми, поскольку они воспринимали его как оскорбление. Оспаривая выводы Малова, Ахмеров предложил альтернативную трактовку физического облика и психологических качеств мишарей, отличающую их от финнов и, напротив, сближающую с татарами. Что касается русских слов, то они перешли в язык татар данной группы в связи с освоением оседлого быта.
Как верно утверждает Р. Джераси, Ахмеров в своей работе критиковал миссионеров с позиции этнографической науки (а значит, и с нравственных позиций), стремившихся обратить мишарей из ислама в православие [6, с.290] .
Необходимо отметить, что труд Ахмерова, был одной из первых работ по сравнительному языкознанию тюркоязычных народов. Он сравнивает мишарский диалект с турецким, киргизским, алтайским, джагатайским, якутским, телеутским, монгольским, узбекским, башкирским, чувашским, уйгурским языками. Это говорит о глубокой эрудированности ученого. Ахмеров убедительно доказывает, что те слова мишарей, которых нет в казанском варианте, то они есть в киргизском, башкирском, уйгурском и т.п.
языках. Этот метод исследования убедительно доказал тюркское происхождение мишарей.
В этом труде есть и гипотеза золотоордынского происхождения татар Нижегородской губернии. Ахмеров пишет, что мишари деревни Новый Пожар Сергачского уезда Нижегородской губернии говорят о себе, что они не мишари, а татарские выходцы из Ахтубы [7, с.142] .
В итоге Ахмеров Г. приводит следующее заключение о языке мишарей: «Из сравнения мишарского наречия с казанско-татарским и сопоставления мишарских слов со словами других тюркских наречий видно, что фонетические особенности, встречаемые в языке мишарей, суть особое свойство восточно-тюркских наречий вообще. Разговорная речь мишарей содержит в себе много тюркских архаизмов, каких не находится в современном говоре казанских татар. Закон гармонии гласных, составляющий отличительную особенность тюркских наречий, всегда и строго соблюдается. Грамматические законы языка те же самые, что в татарском. Нет никаких отступлений ни в склонениях имен, ни в спряжениях глагола, ни в синтаксическом расположении слов. Грамматическое ударение занимает то же самое определенное место в слове (т.е. на конце), как в татарском языке. Слова несогласные с татарскими происходят из тюркского корня и имеют большое сходство со словами восточно-тюркских наречий. Совсем не встречается слов, происходящих из финского корня и имеющих какое-либо сходство со словами соседних финнов- мордвы, черемис и вотяков. В фонетике мишарского наречия также не замечается какого-либо влияния и следов финских» [7, с.144] .
Таким образом, в последней четверти ХIХ - начале ХХ века наметился научный интерес к этнографической группе татар Волго-уральского региона мишарей. Со стороны этнографов консервативно-охранительного направления этот интерес был обусловлен перспективами ассимиляции и русификации татар мусульман, со стороны татарской интеллигенции чисто научными задачами. Анализ этих трудов убедительно доказывает, что к истине по вопросу этногенеза мишарей был наиболее близок татарский этнограф Г. Н. Ахмеров.
Список литературы Татары-мусульмане Нижгородской губернии в трудах дореволюционных этнографов
- Малов Е.А. Православная противомусульманская миссия в Казанском крае в связи с историею мусульмаства в половине XIX века // Православный собеседник. 1872. №2. - С. 232-239
- Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основные направления развития татарского общества в конце XVIII - начале XX веков. Казань, 2001. - 383 С.
- Малов Е. А. Сведения о мишарях: этнографический очерк // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. 1885. Т. 4. - 79 С.
- Гациский А.С. Нижегородские татары - татары ли? // Нижегородские губернские ведомости. - 1886. - №39, 41 и 42.- 33 С.
- Магницкий В.К. Несколько данных о мишарях и селениях их в Казанской и Симбирской губерниях. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1896. - 12 С.
- Роберт Джераси. Культурная судьба империи под вопросом: мусульманский Восток в российской этнографии XIX века / Герасимов И.В. и др. (ред.) // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. ст. / Под ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова. А.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, А.М. Семёнова. - Казань: Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. - С. 271-307.
- Ахмаров Г. О языке и народности мишарей // Известия Общества археологии, истории и этнографии (ИОАИЭ). 1903. Т. XIX. Вып. 2. - 230 С.