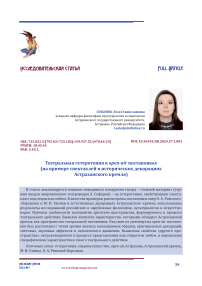Театральная гетеротопия в open-air постановках (на примере спектаклей в исторических декорациях Астраханского кремля)
Автор: Соколюк Л.С.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Пространство культуры: визуальные образы и смыслы
Статья в выпуске: 1 (37), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние невидимого измерения театра - «темной материи» (термин введен американским театроведом Э. Софером) - на гетеротопию, свойственную спектаклям под открытым небом. В качестве примеров рассмотрены постановки опер Н. А. Римского-Корсакова и М. И. Глинки в естественных декорациях Астраханского кремля; использованы результаты исследований российских и зарубежных философов, культурологов и искусствоведов. Изучены особенности восприятия зрителем пространства, формируемого в процессе театрального действия. Выявлен комплекс характеристик, которыми обладает Астраханский кремль как пространство театральной постановки. Ряд сцен из упомянутых open-air постановок был рассмотрен с точки зрения анализа воплощаемых образов, оригинальных декораций, световых, звуковых эффектов и сценического движения. Выявлены свойства «другого пространства», актуализируемого в процессе представления под открытым небом, и определены специфические характеристики такого театрального действия.
Гетеротопия, оперное искусство, open-air, астрахань, астраханский кремль, м. и. глинка, н. а. римский-корсаков
Короткий адрес: https://sciup.org/170206247
IDR: 170206247 | УДК: 725.822.5:[792.02+725.182]:159.937.52 | DOI: 10.36343/SB.2024.37.1.003
Текст научной статьи Театральная гетеротопия в open-air постановках (на примере спектаклей в исторических декорациях Астраханского кремля)
Трансформация современного мира влечет за собой изменения в научной сфере и приводит к появлению новых явлений, требующих адекватных дефиниций, при этом даже традиционные формы знания и искусства приобретают признаки, которыми они до этого не обладали. Достаточно наглядно эти изменения отражаются в театральных постановках, которые сейчас зачастую представляют собой не просто традиционное сценическое действие. Благодаря новым техническим возможностям сама архитектура театра оказывается гораздо более разнообразной. Особое внимание начинает уделяться театральному пространству, которое становится гетеротопным. Спектакли выходят за грани классической драматургии, что требует, в частности, осмысления особенностей, которыми обладают пространства для постановок. Ими подчас становятся различные локации, в том числе и открытые, являющиеся основой иного пространства вне театра – театральной гетеротопии.
Сам термин «гетеротопия» был введен в научный оборот французским философом М. Фуко в работах «Слова и вещи» (1966) [30] и «Другие пространства» (1967) [29]. Гетеротопии описываются им как «фактически локализуемые места, но находящиеся за пределами всех остальных мест, характерны для каждой культуры и цивилизации» [29, с. 195]. Автор противопоставляет гетеротопии утопиям, «поскольку эти места были абсолютно иными, нежели все места, которые они отражают и о которых говорят, я назову их, в противоположность утопиям, гетеротопиями; и я полагаю, что в промежутке между утопиями и этими абсолютно иными местоположениями располагается своего рода смешанный, срединный опыт, коим является зеркало» [30, с. 45].
Сходную концепцию пространств, составной частью которых являлось «пространство репрезентаций», разработал французский философ А. Лефевр [14], однако эта теория преимущественно имеет отношение к архитектуре, а само упомянутое пространство включает в себя социальные отношения людей и их продукты (мифы, символы, образы и др.), которые способны изменять материальные объекты (здания, парки и т. д.). При всей кажущейся похожести «пространство репрезентации» не слишком подходит для описания театральных феноменов, поскольку больше связано с объективной реальностью, чем гетеротопия, которая зачастую полностью конструируется на основе человеческого творчества.
Важные для понимания феномена гетеротопии идеи, касающиеся пространства смыслов, разрабатывал Ю. М. Лотман, который отмечал такие его характеристики, как размытость границ, многообъемность, разнообразие связей между различными элементами [15, с. 146].
В начале ХX в. основные подходы к пониманию проблематики театрального пространства определяют его либо как дихотомию сцена-зал, либо в качестве синонима всей театральной культуры. Основателем первого, ставшего классическим подхода к определению театрального пространства был К. С. Станиславский [27]. Сцена в данном случае предопределяет наличие зала, но границы между этими частями находятся в постоянной динамике.
Выход за пределы традиционных залов в открытое пространство отражает вторжение в классическое искусство признаков достоверной действительности, где произведение наделяется некими новыми свойствами. Анализ современного театра исследователями и режиссерами (Р. Шехнер [31], Дж. Томпкинс [34], Э. Фишер-Лихте [28], Й. Свобода [24] , Б. А. Покровский [18], Е. Гротовский [8], Э. Барба [3] и др.) демонстрирует возросшее значение пространственно-временного фактора. Так, британский режиссер Грэм Вик считает, что «опера – это больше, чем “законный” театр, это возвышенно. Слова ограничены в том, что они могут выразить, но когда их поют и создают гармоничный контекст, выражение расширяется до более глубокого состояния. Опера берет свое начало там, где заканчивается разговорный театр, вибрируя на частоте, проникающей в наше внутреннее существо» [35] ( здесь и далее перевод наш. – Л. С. ).
Театр интерпретирует гетеротопию пространства по-своему, исходя из присущей ему специфики. Феномен «открытых про- странств» в театральной культуре существовал со времен античности, глубокую историю имеет и уличный театр. Известно также, что в 1715-1717 гг. Г.Гендель написал три оркестровые сюиты под общим названием «Музыка на воде» для исполнения именно на открытом воздухе. Между тем оперные постановки не были представлены вне классических театральных зданий.
Современный же театр все больше основывается на принципе некоего обмена опытом между актером и зрителем, и для такой театральной концепции необходима новая пространственная композиция. Первыми опытами в этом направлении стали спектакли site specific . Для этой формы характерно то, что весь город становится театральным пространством, а окружающие здания - декорациями для представления.
Побуждением к выходу ортодоксального искусства в «другое пространство» явился авангард. В начале XXI в. новой арт-средой для различных театральных форм, таких как хэппенинг и перформанс, стали площадки, расположенные под открытым небом. Исполнение же классических произведений на открытом воздухе приобрело название open-air (англ. open - «открытый», air - «воздух»; дословно – «проводимый на открытом воздухе»).
Определив основную тенденцию, драматическая режиссура послужила источником новаторства и в оперном искусстве. В конце XX в. многообразие постановочных решений проникло в закрытую систему музыкального театра, при этом новые сценографические и пространственные факторы потребовали серьезного режиссерского осмысления. В музыкальном театре в настоящее время формат open-air особенно актуален, являясь своеобразной апелляцией к историческому прошлому, когда постановки проходили в амфитеатрах, на площадях, у соборов под открытым небом. Следовательно, создавая новое, мы обращаемся к истории театра - в этом заключается глубокий символизм, подчеркивающий связь современного искусства с классическим.
Таким образом, современный театр – это уже нечто большее, чем просто сцена. Следует отметить, что open-air постановки на городских площадях, территориях памятников архитектуры, имеющих историческое значение, наполнены монументальностью этих пространств. Оперные спектакли open-air также часто проводят в естественных архитектурно-исторических интерьерах. Когда в литургических эпизодах слышен колокольный звон, ставится понятно, что постановка полностью привязана к месту, к пространству, к культуре.
В европейских городах, таких как Лондон, Эдинбург, Верона, Неаполь, Оранж, Брегенц, Бирмингем, постановки open-air уже давно стали традиционными. Спектакли проходят на территориях старинных замков, арен-амфитеатров, у озер и в других пространствах. Оперу под открытым небом ставили и у подножия древней крепости Масада, расположенной в Израиле (город Акко) на побережье Мертвого моря, в Австралии ( open-air театр Сидней), и в Болгарии на территории музея-заповедника на фоне Черной палаты – уникального памятника золотоордынского зодчества XIV в. Самой известной из таких постановок является опера «Аида» у египетских пирамид.
В России open-air приобрели популярность примерно к началу 2010-х гг. Сегодня трансформация улиц, площадей, бульваров, старинных усадеб, исторических памятников в театральное пространство стала популярной. В формате open-air проходят Всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа», «Императорские сезоны в Тульском кремле», фестиваль русской оперы в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» перед Спасской башней Илимского острога, театральный фестиваль «Голоса истории» в Консисторском дворе Вологодского кремля, фестиваль «Русская опера у стен монастыря» (г. Серпухов), оперные спектакли в естественных декорациях и на месте реальных исторических событий XIV в. в Липецкой области (г. Елец) и т.д. Проект «Opera Yard» предполагает оперные постановки в старинных московских усадьбах, фестиваль «Империя оперы» проходит на территории музея-заповедника Измайлово, фестиваль «Ночь в Див-ногорье» - проект «Музыка open-air» - на территории музея-заповедника (Воронежская область) и др. Основу перечисленных проектов в основном составляют классические музыкальные произведения. Русская опера в естественных декорациях звучит в Кремле Великого Новгорода, на Вечевой площади Псковского кремля, у древних стен Рязанского, Астраханского и Казанского кремлей.
Бывает и так, что некоторые фестивали проходят в формате открытого пространства, но без привязки к историческому локусу. В этих случаях на улице выстраивается театральная сцена с декорациями.
В данной статье гетеротопия будет изучена на примере театральных постановок open-air в исторических декорациях Астраханского кремля. На его Соборной площади с 2012 г. проходят масштабные постановки самых значительных произведений русских композиторов. За более чем десятилетний период зрителям были представлены «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» М. И. Глинки, а также кантата «Александр Невский» С. С. Прокофьева. Эти великие произведения безупречно влились в пространство Астраханского кремля.
В настоящей работе феномен «театральной гетеротопии» рассматривается прежде всего в контексте анализа пространства openair постановки как структуры, обладающей определенными характеристиками. В работах отечественных ученых само явление гетеротопии изучалось в первую очередь применительно к искусству в целом. Так, исследование С. Т. Махлиной [16] обзорно охватывает воплощение этого феномена в современном изобразительном искусстве, театре (такие проявления, как «полиформа» и «вербатим»), музыке и даже экспозиционно-выставочной деятельности.
Приемы современного искусства, его трансдисциплинарные области и отдельные практики, являющиеся примерами проявления художественной гетеротопии, стали объектами изучения в работе О. В. Поповой [20], которая выявила ряд присущих этому феномену специфических свойств. В фуколти-анском ключе исследователь проанализировала произведения биоарта, описав механизмы гетеротопизации произведений искусства [19]. Особое значение имеет исследование
О. В. Поповой, посвященное художественным практикам science art [21], методологический фундамент которого составляет идея о гетеротопии как о семиотической системе, актуализирующей специфическое соотношение между означающим и означаемым. Цель этой системы – создание альтернативного образа мира путем использования ряда особых механизмов (гибридизация, синтез, переозначива-ние, перенос объектов из одного пространства в другое).
Исследование В. М. Кулькиной [13] также позволяет рассмотреть гетеротопию в аналогичном дискурсе, отражая ее понимание как особой формы представления семиотической системы в художественном тексте.
В работе Л. Д. Бугаевой [5] исследуется феномен гетеротопии (полилокальности) в современном киноискусстве, проявляющийся в наличии нескольких разнокультурных пространств (съемочных локаций), образующих неравнозначное им по своей сумме «надпространство».
Важнейший с практической точки зрения и наиболее изученный прикладной аспект круга научных проблем, связанных с феноменом гетеротопии, составляет использование данного понятия при попытках осмысления структурных, функциональных и иных особенностей современного городского пространства. Тематический спектр таких публикаций весьма широк и охватывает вопросы архитектурной деятельности [23], идеи концептуального характера [4], специфику гетеротопий в древних и современных городских пространствах [22], методологические ракурсы темы (когда все городское пространство исследуется через призму его гетеротопично-сти) [2], ее антропологические и культурно-географические аспекты [11] и даже явление коммерческой сдачи жилых пространств в аренду [12].
Вторым магистральным тематическим ракурсом рассматриваемой проблемы является изучение перформативных практик, получивших широкое распространение не только в современном театре, но и в других сферах искусства. Так, Ж. В. Васильева [6] выявляет аналогию между театральными постановками, реализуемыми в нетеатраль- ном пространстве, и нижегородским архитектурно-художественным проектом «Сад им.», формирующим, по мнению исследователя, память места и находящимся в «зоне перехода» «между пространственным искусством архитектуры, социальными и перформативными практиками» [6, с. 122]. При анализе проекта автором использована и концепция гетеротопии: по мнению Ж. В. Васильевой, созданный во дворе крематория реальный сад представляет собой «знак виртуального архива воспоминаний», а его пространство «наделяется дополнительным измерением – памятью о “милых спутниках”, которые были» [6, с. 116].
Театральные проекты в несценических пространствах, реализованные в Москве в середине 2010-х гг., исследовались И. Е Гордиенко [7], при этом использовалась не только методологическая концепция М. Фуко, но и понятие «индексальности» (Ч. Пирс и Р. Краусс). Важным выводом автора стала идея о том, что такие спектакли, несмотря на свою отделенность от реальной повседневности, принадлежат не только сфере художественного вымысла – работая с коллективной памятью, театр «выводит на поверхность наслаивание и перекрещивание пространственно-временных и концептуальных пластов в существующих сегодня местах» [7, с. 93], то есть непосредственно участвует в процессах социальной интеракции.
Жанрово-стилевая и культурно-пространственная переходность спектаклей под открытым небом отмечается в исследовании С. С. Соковикова [25], рассматривающего присущее этим проектам состояние гетеротопии в качестве одной из их сущностных черт.
Автор настоящего исследования также анализирует тему «других пространств» применительно к постановкам open-air (на примере исполнения кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский» в стенах Астраханского кремля), отмечая связь этих пространств, формируемых и актуализируемых в процессе театрального действа, с социальной, политической и культурной сферами в их современном состоянии [26, с. 87].
Подытоживая анализ степени изученности, можно отметить, что феномен гетеротопии применительно к нетеатральным спек- таклям изучен относительно неплохо: в концептуальном смысле фуколтианские идеи о «множественных пространствах» получили достаточно полное освещение в отечественной культурологии как в целом, так и в ряде своих тематических аспектов. Серьезный подход демонстрируется и при исследовании пространства постановок под открытым небом при помощи упомянутой методологии, проблема состоит лишь в том, что авторы пользуются одними и теми же теоретическими установками, в результате чего их выводы перекликаются между собой. Это и идея о пространстве спектакля как о некоем «месте перехода» между различными временами, виртуальными локациями или сферами восприятия реальности, и мысль о связи театрального действа с социальной действительностью, и апелляции к коллективной памяти зрителей, воспринимающих это действо. Представляется, что придать новый импульс исследовательским усилиям можно посредством использования нового (применительно к рассматриваемой проблематике) методологического инструмента, каковым может стать концепция «темной материи» американского театроведа Э. Софера, разработанная им в 2013 г. [33].
Целевой ориентир данного исследования состоит в том, чтобы на оригинальном материале двух open-air постановок проанализировать влияние «темной материи» (в трактовке Э. Софера) на присущую спектаклям под открытым небом гетеротопию, выявив свойства актуализируемого при этом «другого пространства» и характеристики самого театрального действа, с учетом результатов исследований по сходной тематике российских и зарубежных философов, культурологов и искусствоведов. В качестве примеров при этом были использованы постановки опер Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (премьера состоялась 9 сентября 2016 г.) и М. И. Глинки «Иван Сусанин» (премьера – 2 сентября 2023 г.) в естественных декорациях на Соборной площади Астраханского кремля.
Методологической базой представленного исследования стали: концепция «гетеротопных пространств» М. Фуко, отражающая пространственно-временные характеристики гетеротопии; упомянутые выше идеи Э. Софера [33], связанные с осмыслением невидимого измерения театра (так называемая «темная материя»), эффекты которого ощущаются повсюду в представлении, при этом постоянно структурируя и фокусируя театральный опыт аудитории.
Для достижения цели исследования необходимо проанализировать формат open-air постановок как гетеротопию, приняв во внимание фактор использования новых технологий при создании «другого пространства», характеристики театральной гетеротопии и особенности восприятия зрителем пространства, формируемого в процессе театрального действа. Важной задачей также представляется рассмотрение свойств «мест-гетероклитов» (в трактовке М. Фуко), имеющих значение при создании постановки, и отличительных характеристик «темной материи» – комплекса невидимых компонентов театрального представления (в соответствии с концепцией Э. Софера). Отдельного внимания требует комплекс характеристик, которыми обладает Астраханский кремль как пространство театральной постановки и которые актуализируются при создании спектаклей open-air на Соборной площади старинной крепости. Все эти теоретические установки и наблюдения необходимо апробировать на материале двух упомянутых open-air постановок, рассмотрев некоторые их сцены с точки зрения анализа воплощаемых образов, оригинальных декораций, световых, звуковых эффектов и сценического движения.
Осмысление феномена театральной гетеротопии с учетом новых методологических разработок дает возможность прояснить некоторые аспекты зрительского восприятия постановок под открытым небом и способствует разработке ориентиров, которые являются значимыми для определения возможностей и пределов использования данной фуколти-анской категории при философско-культурологическом осмыслении произведений сценического искусства.
* * *
В своей книге «Эстетика перформа-тивности» (2004) театровед Э. Фишер-Лихте рассматривает расширение пространства сценического действия как результат «перформативного поворота» [28, с. 17], обозначившегося в 1960-е гг.: именно в это время художники снова начали выходить за пределы театральных зданий.
С одной стороны, режиссеры классических постановок в формате open-air не должны переступать границы канонических художественных принципов, с другой – на открытом пространстве нет кулис, софитов, декорационных подъемов и других технических средств и ресурсов, тем самым оно в любом случае бросает недвусмысленный вызов устоявшемуся восприятию театра и свойственной ему художественной реальности.
Формат open-air представляет собой гетеротопию в новом физическом и концептуальном пространстве и рассматривается как элемент, среда или преобразующая сила: «Гетеротопия имеет свойство сопоставлять в одном единственном месте несколько пространств, несколько местоположений, которые сами по себе несовместимы. Именно так театр сменяет на прямоугольнике сцены целый ряд чужих друг другу мест» [29, с. 200].
Сегодня благодаря новым технологиям возможности для формирования «другого пространства» практически безграничны: от воплощения простых абстрактных и символических образов до создания виртуального пространства и использования практического реального «реквизита», например воды, огня, лошадей, птиц и т. д. Спектакль open-air дополняют звуки ветра и транспорта, шум, создаваемый зрителями и листвой деревьев, атмосфера звездного неба. Все это стирает грань между театральным действием и реальностью, объединяет локус и действие, чем вызывает особый отклик у зрителей.
В постановке на открытом воздухе создается своего рода симбиоз «ясности и загадочности, видимости и невидимости» [32, р. 23]. То, что зритель видит на сцене, по сути является искусственным изображением реальности. Восприятие же пространства и присутствие в нем побуждает к интеллектуальному и эмоциональному пониманию материальности театральной постановки, поскольку «другие пространства» не только создаются посредством спектакля, но также становятся доступными за его пределами.
Театральная гетеротопия имеет свои особенности, отличительные признаки, а именно:
-
— взаимосвязь пространства с различными уровнями времени и материи;
-
— наличие определенного взаимодействия элементов, образующих некое противопоставление, как между собой, так и с миром;
-
— замкнутость и проницаемость пространственных областей;
-
— определенная иерархия структурных элементов;
-
— подвластность общим культурным векторам [29, с. 197].
Находясь внутри «театральной гетеротопии», зритель постоянно вовлечен в ход действия, так как ощущает свою непосредственную причастность. Такое представление не переносит действие в настоящее время, однако само участие зрителей за счет альтернативного порядка времени и пространства помогает осмыслить то, что происходит непосредственно на сцене и имеет значение за пределами театра.
Существуют такие места, которые сами по себе вызывают некие пространственно-временные трансформации [29, с. 198], и концепция М. Фуко указывает на существование так называемых «мест-гетероклитов», находящихся в особых взаимоотношениях с остальными пространствами и имеющих определенные пространственно-временные единства. Примерами таких мест служат библиотеки, корабли, музеи, историко-архитектурные комплексы.
По мнению М. Фуко, место само по себе в контексте его понимания не имеет полной идеологической и научной ценности. В театральном искусстве старинная архитектура и историческое прошлое таких мест определяют достоверность оперного действия, которая связана с уже упоминавшейся силой воздействия таких постановок на зрителей, так как в новом театре происходит переход к так называемой «архитектуре вовлечения и участия» [28, с. 123]. Подобная достоверность является основанием для заключения о том, что, применяя в театре свойства гетеротопии, воз- можно влиять на понимание зрителями реальности в целом. Астраханский кремль представляет собой как раз такое «другое место», соединяя в себе и локус, и элементы театрального действия.
Американский театровед и теоретик Э. Софер высказал идею о том, что в процессе сценического воплощения режиссерского замысла формируется так называемая «темная материя» [33, р. 3], обладающая неотъемлемым атрибутом – невидимостью – и представляющая собой серию не доступных прямому зрительскому восприятию театральных элементов, которые невозможно изолировать, они присутствуют и существенно влияют на действие и на его восприятие. Э. Софер, в частности, писал: «Мой тезис прост: невидимые явления – темная материя театра», которая включает « все, что материально не представлено на сцене, но не является недопустимым » [33, p. 4] (курсив Э. Софера. – Л. С. ). Невидимая, но прилагающая силу своего притяжения ко всем элементам сцены «темная материя» больше, чем просто текстовый при-ем,– она «вплетена в ткань театрального представления» [33, p. 4].
Подобные эффекты динамически обусловливают само представление, начиная с замысла и сценографии театрального пространства, заканчивая их взаимодействием между собой и с публикой. Все элементы при этом функционируют как единое целое, как «драматическая материя», создавая множественные пространства, то есть гетеротопию. Примечательно то, что эти эффекты никак не обозначаются в художественной партитуре спектакля и, возможно, даже не задумываются режиссером как таковые, тем не менее именно они являются движущей силой спектакля.
Термин «темная материя» был заимствован Э. Софером из физики, следовательно, для этого феномена характерны те же признаки, что и для физической материи, то есть материи неизвестной природы, находящейся между сценой и зрителем. Она является неким объективом, который искажает изображение и позволяет увидеть и осмыслить невидимое. Основной особенностью «темной материи» в театральном аспекте становится то, что она позволяет заметить скрытое, даже когда оно находится вне поля зрения. В театре в наибольшей степени, нежели в других видах искусства, невидимое служит созданию образа.
В постановках open-air открываются и новые драматические возможности, то есть связь между театральным пространством и реализуемой в его границах творческой идеей осуществляется в обоих направлениях. Сложное взаимодействие пространства, музыки и природных эффектов, присутствие артистов и публики определяют потенциал для различных трансформаций, с помощью которых возможно влиять на эмоции зрителей в определенном направлении. Это открывает новые грани художественной реальности, а также задает вектор для дискурса, включающего в себя элементы идеологического и научного знания.
Постановки open-air обычно предполагают размещение оркестра в полузакрытом пространстве, однако в рассматриваемых нами случаях в Астраханском кремле оркестр наоборот был расположен в самом архитектурном ансамбле. Постановщики ушли и от статичности хора, хористы становятся непосредственными участниками действия и перемещаются по сцене. Специально задействовано минимальное количество вспомогательных конструкций для того, чтобы на Соборной площади естественные декорации Астраханского кремля воспринимались публикой во всем своем величии.
В каждой постановке наблюдается свое уникальное сценографическое решение лобного места – самой высокой точки игрового пространства в Астраханском кремле, и для каждого спектакля удается найти свой оригинальный способ, который бы подчеркивал храмовый ансамбль. Например, в «Борисе Годунове» это колокол, в «Князе Игоре» – зеркальный диск, в «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии» – зачехленные зеркальные призмы (по сути и являющиеся Китежем), которые использовались как своеобразный экран для видеопроекций.
Представляется, что последнее из упомянутых произведений является удачным примером создания визуального гетеротопического пространства, в котором реализуются сложные эксперименты с восприятием и по- ниманием зрительных образов, музыки, слов, а также невидимых элементов, составляющих «темную материю»: эффектов, подтекстов, смыслов. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» была создана Н. А. Римским-Корсаковым в период с 1903 по 1907 гг. Среди источников, положенных в основу либретто, были русские летописные тексты и житийная литература.
В начале постановки зритель видит лес и наслаждается настоящим шорохом листвы, пением птиц. Звучит оркестровая увертюра, и вместе со звуками природы разворачивается главная музыкальная тема произведения. В первом действии декорации леса сочетаются со стихией воды, присутствующей на сцене. Песня Февронии «Ах ты лес, мой лес» полна чистоты и спокойствия: вода символизирует прозрачность и четкость, в то же время иллюстрируя музыкальные переходы и изменения. Она выступает как «отдельная единица, как некая материя» [33, p. 4], однако Л. В. Данилевич, исследователь творчества Н. А. Римского-Корсакова, характеризуя композиторский замысел, писал: «Образы природы занимают большое место в “Китеже”, как и в других корсаковских операх. Но при этом они все же являются лишь фоном, оттеняющим мысли и чувства людей, прежде всего Февронии» [9, с. 186].
Третье действие разворачивается в Великом Китеже и является драматическим центром оперы. Здесь присутствуют массовые сцены: толпы людей, собравшиеся у Успенского собора. Исторические декорации при этом становятся основой действия.
Во второй картине действие разворачивается на берегу озера, которое материализуется как отдельная среда – то самое «другое пространство», где, собственно, и происходит спектакль. То есть все артисты действуют либо внутри этого пространства, либо переходят его границы. Берег, на котором стоит Китеж, покрыт густым туманом. Лучи освещают озеро, в нем отражается город. Само озеро не представлено как постоянное: в разных сценах оно трансформируется. Здесь театральные приемы и механизмы становятся неотъемлемой частью действия. Озеро становится тем, что, по словам Э. Фишер-Лихте, называ- ется «радикальной концепцией присутствия» [28, с. 267]. Эта непроницаемая поверхность материи, то есть озеро, хотя и ограничена размерами сцены, тем не менее продолжается и вне ее, частью представляя собой «закулисный» образ, какой-то долей своей относясь к «темной материи».
Первая картина четвертого действия через пустое пространство усиливает ощущение сверхъестественного. Феврония одна, из земли появляются цветы, и в сиянии возникает призрак Всеволода. Сценическая площадка воспринимается как «символическое пространство, приобретающее различные смыслы и метафизические измерения» [17, с. 236]. Далее облако рассеивается, град Китеж чудесно преображен. Здесь-то и оказалась Феврония. Княжича Всеволода приветствует народ. Опера заканчивается торжественным колокольным звоном, Феврония и Всеволод шествуют в собор к венцу.
Несмотря на то, что музыка и либретто «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» были написаны более столетия назад, по настоящее время исследователи-искусствоведы находят в произведении Н. А. Римского-Корсакова новые смыслы и порой «слишком “вольно” трактуют сюжет оперы, приписывая ее авторам то, чего они не сочиняли» [9, с. 180]. Описанная open-air постановка так же не стала исключением: главным ее героем является князь Всеволод, а не Петр, как в первоначальном сюжете.
Ярким примером сочетания театральной гетеротопии с элементами «темной материи» является и опера М. И. Глинки «Иван Сусанин», представленная в формате open-air в исторических декорациях Астраханского кремля в 2023 г. В основе сюжета подлинное историческое событие – подвиг крестьянина костромского села Домнина Ивана Осиповича Сусанина, который он совершил в 1613 г. [1, с. 213]. Музыка и драматургия этого произведения положили начало новому оперному жанру – народной музыкальной драме.
Во вступлении звучит величественная музыка, которая вместе с декорациями создает множественное пространство и помогает воплощать драматические события оперы. Захватывающая, динамичная мелодия передает главный драматический конфликт и в то же время печаль, которая невольно ощущается в размышлениях о героях, погибших за идею патриотизма. В самом начале оперы через противоборство художественных образов задается трансформация мелодического мотива от мрачного вступления к торжествующему финалу, увертюра отражает особую звучность и мелодичность подлинно национальной музыки, выражающей непреклонную волю русского народа к победе.
Уже в первом действии оперы «Иван Сусанин», когда музыка отражает основную идею – любовь русского народа к Родине, «темная материя» позволяет зрителям, не осознающим в полной мере своего участия в этом механизме репрезентации, объективно интерпретировать центральный образ: главный герой не помышляет о счастье в дни тяжелого бедствия, и это еще больше связывает его с народом.
В оперных спектаклях open-air благодаря действию свойств гетеротопии подтверждается тот факт, что в театре необходимо использовать искусственное, чтобы прийти к реальному. Этот тезис становится очевидным при применении новых технологий в сочетании с реализацией принципов театральной гетеротопии. Так, вторая часть третьего действия оперы «Иван Сусанин» посредством «темной материи» иллюстрирует иллюзорность, обманчивую «прозрачность» постановочного пространства, и в тоже время она становится средством взаимодействия между артистами и публикой. Зрители чувствуют атмосферу тревожного времени, которая предсказывает дальнейшие драматические события. Поскольку театральное явление происходит только в момент действия, то и «темная материя» приобретает значение, когда мы имеем дело с восприятием постановки зрителем.
В четвертом действии, которое начинается оркестровым вступлением, музыкальные образы и декорации перемещают зрителя в ночную панораму глухого зимнего леса. Лес на сцене как бы открывает что-то «неизведанное, чужое, и через эту материю несет реальное» [17, с. 406].
В третьей картине сцена предстает перед зрителем визуально размытой, ста- новясь своеобразной точкой невозврата, тупиком, означающим смерть. Звучит ария Сусанина «Ты взойдешь, моя заря». Музыка и атмосфера передают глубокую скорбь, душевную боль и в то же время мужество героя. В этой картине зимнего леса Сусанин остается один на один со своими мыслями. И в начале, и в конце действия присутствует некий образ природы – заря, которая становится последней зарей Сусанина, она преобразует окружающий мир через свет, отражение которого в некоторых сценах выглядит как тьма. Пространство сценической площадки воспринимается при этом одновременно и замкнутым, и проницаемым.
Финал оперы – Сусанин с поляками в глухом лесу, звучит самая известная его ария «Чуют правду!..». Музыка и эффекты передают вой ветра и вьюги, и это не только образы природы, это – отражение состояния главного героя. Захватчикам становится ясно, что Сусанин завел их в эту глушь, чтобы они здесь погибли. Воссоздать сцену, которая бы имела подобный эффект погружения, возможно только в исторических декорациях.
В эпилоге под звон колоколов звучит хоровая партия «Славься, славься, святая Русь». Здесь, как и в других сценах, исторические декорации играют неотъемлемую роль, а отличия постановки open-air от классического театрального представления становятся еще более очевидными. Само существование сцены ставится под сомнение, поскольку и она в этом случае становится имитацией.
Как и в большинстве других постановок open-air , исторические декорации оперы находятся в симбиозе с новыми мультимедийными технологиями. Видеопроекция и свет буквально оживляют декорации: публика погружается в атмосферу непролазных костромских лесов, Красной площади, избы, балов (в постановке присутствуют танцевальные номера). В спектакле задействованы птицы и животные – белоснежные голуби и четверки гнедых рысаков.
Французский философ Ж. Делез называл «истинным театром» только тот, который состоит «из трансформаций и переходов» [10, с. 23]. В то же время Э. Фишер-Лихте отмечаk: «Театр остается местом воплощения идеи, создавая возможность, чтобы тело функционировало как объект, субъект, материал и источник символической конструкции, а также продукт культурных надписей» [28, с. 211]. Эти идеи как нельзя лучше описывают суть театральной постановки в исторических декорациях, которая минимизирует театральные метафоры, выводя тем самым спектакль за рамки репрезентации. В open-air постановке оперного произведения реализм плавно трансформируется в иллюзию, приобретает свойства непостижимого, иррационального, создавая новую реальность, где игровое и зрительское пространство объединены «темной материей», формируемой из невидимых эффектов и неосознаваемых подтекстов, олицетворяющих призрачное прошлое и неминуемое будущее. Такая трансцендентная театральность подтверждает многочисленные перекодировки и интерпретации, характерные для современного искусства. Формируется как бы третье, «другое», почти невозможное пространство, которое трансформируется, интегрируя исторические декорации, музыку, невидимые элементы («темную материю»), и выстраивает их совокупность как театральную гетеротопию, по сути представляющую собой многослойное явление.
* * *
Итак, театральная гетеротопия (или репрезентация временной гетеротопии) имеет особое значение в границах сценического пространства, даже если оно расположено за пределами театральных зданий. Гетеротопия трансформирует это пространство и формирует несколько пространственно-временных уровней, обладающих большими потенциальными художественными возможностями.
В условиях гетеротопии воздействие «темной материи» позволяет еще дальше отойти от привычной системы символов, характерных для театральной условности. Рассмотренные в настоящем исследовании примеры доказывают, что при этом проявляется ряд тенденций, выходящих за рамки театрального реализма и дополняющих концепцию театральной гетеротопии, которая становится настоящим порталом в трансцендентное.
Можно выделить несколько свойств пространства, актуализируемого театральной гетеротопией, и соответствующие характеристики театрального действия:
-
— актуализация элементов «темной материи» только в момент непосредственного восприятия спектакля публикой, очевидно, что видеозапись не сможет воспроизвести в полной мере все реализованные эффекты;
-
— возникновение в определенные моменты театрального действия «подпространств», выполняющих временные функции;
-
— особое позиционирование пустого сценического пространства, которое воспринимается как метафизическое и почти сверхъестественное (здесь особенно важен фактор «темной материи»);
-
— многокомпонентность сценического действия (музыка, свет, декорации, невидимые элементы и др.) и связанных с ним эффектов закономерно помогает создавать на сценических пространствах множественное пространство;
-
— возможность создания пространств с разными сочетающимися свойствами (например, замкнутых, проницаемых и др.).
Таким образом, проведя исследование на материале open-air постановок, можно заключить, что любой спектакль будет оспаривать концепцию объективно существующей реальности (реальной повседневности) тем сильнее, чем более интенсивно представлены в нем элементы «темной материи». Опыт театральной гетеротопии требует от артистов и зрителей определенного ответа «здесь и сейчас», что доказывает экзистенциальный характер этого феномена, связанного со сложными эмоциональными переживаниями, становящимися частью индивидуального социального опыта каждого зрителя – все это демонстрирует неразрывную связь между конструируемым пространством театрального спектакля и общественной жизнью, неотъемлемой частью которой является искусство.
Список литературы Театральная гетеротопия в open-air постановках (на примере спектаклей в исторических декорациях Астраханского кремля)
- Асафьев Б. В. Избранные работы о М. И. Глинке. Избранные труды. Т. 1. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. 401 с.
- Баева Л. В. Гетеротопии и культура современного городского пространства // Этнокультурная ситуация региона: варианты и перспективы развития: сб. науч. ст. / под ред. Е. В. Листвиной, Н. П. Лысиковой. Саратов: Саратовский источник, 2017. С. 16–22.
- Барба Э. Бумажное каноэ. Трактат о театральной антропологии. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2008. 304 с.
- Беззубова О. В. Гетеротопии городского пространства: к истории концепта // Эстетика архитектуры и дизайна: материалы всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 4–6 октября 2010 г.) М.: Архитектура-С, 2010. С. 27–31.
- Бугаева Л. Д. Достоевский А. Вайды и гетеротопия М. Фуко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2022. Т. 19, № 3. С. 515–532. DOI 10.21638/spbu09.2022.307.
- Васильева Ж. В. Перформативные практики современного искусства и ритуал прощания (на примере проекта Артема Филатова и Алексея Корси «Сад им.») // Шаги / Steps. 2022. Т. 8, № 1. С. 107–123.
- Гордиенко Е. И. Спектакли in situ: документальное пространство игры // Шаги / Steps. 2017. Т. 3, № 3. С. 81–96.
- Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику / пер. с польск., сост., вступ. ст. и примеч. Н. З. Башинджагян. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. 351 с.
- Данилевич Л. В. Последние оперы Н. А. Римского-Корсакова. М/: Музгиз, 1961. 280 с.
- Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. 384 с.
- Жигальцова Т. В. Жертвенные гетеротопии провинциального города // Урбанистика. 2016. № 4. С. 73–80.
- Корюхина И., Куклина В. О гетеротопии коммодифицированного жилого пространства (случай Байкальска) // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18, № 1. С. 36–55. DOI 10.17323/1728-192X-2019-1-36-55.
- Кулькина В. М. Пространство гетеротопии как специфическая семиотическая система // Языковое бытие человека и этноса: материалы XIII Березинских чтений (Москва, 15 мая 2017 г.) / под ред. В. А. Пищальниковой. Вып. 19. М.: Ин-т научной информации по общественным наукам РАН, 2017. С. 133–137.
- Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. 432 с.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2001. 703 с.
- Махлина С. Т. Гетеротопия в современной художественной культуре // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 3 (40). С. 75–78. DOI 10.30725/2619-0303-2019-3-75-78.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999. 608 p.
- Покровский Б. А. Сотворение оперного спектакля: Шестьдесят коротких бесед об искусстве оперы. М.: Детская литература, 1985. 144 с.
- Попова О. В. Гетеротопия в искусстве: случай биоарта // Манускрипт. 2019. Т. 12, № 2. С. 143–147. DOI 10.30853/manuscript.2019.2.28.
- Попова О. В. Художественная гетеротопия как понятие современного искусствоведения // Культура и искусство. 2019. № 8. С. 54–59. DOI 10.7256/2454-0625.2019.8.30435.
- Попова О. В. Семиотический механизм гетеротопии (применительно к science art) // Манускрипт. 2019. Т. 12, № 5. С. 211–214. DOI 10.30853/manuscript.2019.5.44.
- Рыжкова Д. С. Городские пространства: от утопии к гетеротопии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 1–1. С. 233–237.
- Сапрыкина Н. А. Особенности формирования атипичных пространств обитания в контексте концепций архитектурной гетеротопии // Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования Российской академии архитектуры и строительных наук по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2018 году: сб. науч. тр. Т. 1. М.: Изд-во АСВ, 2019. С. 167–175. DOI 10.22337/9785432303080-167-175.
- Свобода Й. Тайна театрального пространства: Лекции по сценографии / вступ. ст. Л. П. Солнцева; пер. с итал. А. Часовниковой. 2-е изд. М.: Гос. ин-т театрального искусства, 2005. 144 с.
- Соковиков С. С. «Переходность» и «разноместность» уличного театра в культурном пространстве // Искусство – образование – культура: традиции и современность: сб. тр. всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 21–22 апреля 2019 г.). М.: Ин-т современного искусства, 2019. С. 324–330.
- Соколюк Л. С. Философия открытых пространств в постановках open-air на примере кантаты «Александр Невский» // Социокультурные исследования в современном культурном пространстве: материалы всерос. науч.-практ. конф. (Астрахань, 28 октября 2021 г.) / под ред. Е. В. Хлыщевой [и др.]. Астрахань: Астраханский гос. ун-т, Издательский дом «Астраханский университет», 2021. С. 84–88.
- Станиславский К. С. Об искусстве театра: Избранное. М.: Всерос. театр. о-во, 1982. 313 с.
- Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М: PLAY&PLAY – Канон+, 2015. 376 с.
- Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. С. 191–204.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. 407 с.
- Шехнер Р. Теория перформанса. М.: V-A-C Press, 2020. 486 с.
- Auslander P. Performance in a mediatized culture. 2-nd ed. London; New York: Routledge, 2008. 224 p.
- Sofer A. Dark Matter: Invisibility in Drama, Theater, and Performance. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2013. 229 p.
- Tompkins J. Theatre’s heterotopias: Performance and the cultural politics of space. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 231 p.
- Vick G. Opera needs radical overhaul to survive [Electronical Resource] // The Stage. URL: https://www.thestage.co.uk/opinion/graham-vick-opera-needs-radical-overhaul-to-survive (Accessed: 20.02.2024).