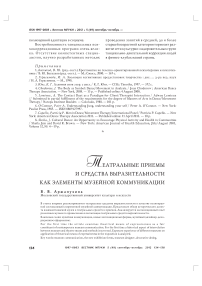Театральные приемы и средства выразительности как элементы музейной коммуникации
Автор: Аржанухина Вера Валерьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Социально-культурная деятельность
Статья в выпуске: 5 (49), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые рассматриваются театральные средства выразительности в качестве полноправной составляющей современной музейной коммуникации. Представлен обзор исторического аспекта взаимоотношений музея и театральных средств и приемов. Анализируется экспозиционный опыт различных музеев по привлечению в экспозиции театральных средств выразительности.
Музейная коммуникация, новые экспозиционные формы, музейный дизайнер, декорационное оформление
Короткий адрес: https://sciup.org/14489293
IDR: 14489293
Текст научной статьи Театральные приемы и средства выразительности как элементы музейной коммуникации
For the first time the article examines theatrical means of expressiveness as a fair constituent of contemporary museum communication. For the first time a historical aspect of interrelation between museum and theatre means and methods is surveyed. Exposure experience of different museums on application of theatrical means of expressiveness in the exposition is analyzed.
1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 5 (49) сентябрь–октябрь 2012 134–138
Ассортимент театральных выразительных средств и приемов накапливался веками — одновременно с развитием самого театра. Сегодня их ряд вполне конкретизирован. Это декорации, костюмы, бутафория, звук, свет и спецэффекты, а среди театральных приемов лидирует театрализация. Театральный подход всегда был востребован и часто применялся и в политике, и религии. Вспомним костюмированные мистерии Древней Греции и триумфальные шествия римлян. Христианская церковь тоже брала на вооружение театральные наработки. В Х веке в средневековой Европе даже зародился жанр церковной драмы («Визит в гробницу», «Игра об Адаме»), а на Руси с начала ХVI столетия становятся популярными духовные драмы («Хождение на осляти», «Пещное действо»). Таким образом, театральные средства давно уже являются проверенными временем коммуникаторами различных общественных институтов, благодаря своему главному достоинству — способности привлекать внимание. Понимание этого пришло и в музейную практику.
Автором первых работ по теории музейной коммуникации стал канадский музеевед Д.Ф. Камерон. Произошло это в конце 60-х годов ХХ века, но практический поиск коммуникационных решений начался гораздо раньше. Еще во 2-й половине ХIХ века на этнографических и кустарно-промышленных выставках были представлены новые экспозиционные формы. Это способствовало развитию междисциплинарных связей, что закономерно, так как «…теория коммуникации, равно как и музееведение, оказывается сферой междисциплинарного знания» (9). Чаще всего организаторы первых российских выставок обращались к декорационному оформлению и бутафории. Сегодня норма, когда в подготовке экспозиции участвует художник или музейный дизайнер, — а ведь каких-то сто лет назад ставшие хрестоматийными художественные приемы многими музеями категорически отвергались. Порой доходило до курьезов. Журналисты, писавшие о Всероссийской этнографической выставке 1867 года, упрекали организаторов в том, что декоративная сторона превалирует над научным содержанием (2). Зато когда экспонаты выставки вошли в состав Дашковского этнографического музея — уже без декорационного антуража — современники сетовали, что размещение экспозиции по научному принципу снизило ее научнопознавательное значение (4).
Впервые широкое применение декоративные элементы получили на Всероссийской этнографической выставке, проходившей в Москве в 1867 году. Экспозиция посвящалась проживающим в России этническим группам и представляла собой жанровые сцены, типичные для того или иного региона. Для оформления выставки были приглашены скульпторы и художники. «Русский отдел» был представлен в форме ярмарочной сцены в декорациях А.К. Саврасова — живописца, с удивительной достоверностью работающего в жанре деревенского пейзажа. На Политехнической выставке 1872 года в Москве появились действующие декорации-павильоны — уменьшенные копии памятников национальной архитектуры. Например, для представления Туркестана был выстроен отдельный павильон в виде самаркандского медресе Ширдан (8). В дальнейшем уменьшенные копии архитектурных построек стали излюбленным приемом художников-оформителей. В 1914 году на Всероссийской ремесленной и фабрично-заводской выставке, которая проходила на Ходынском поле в Москве, Центральный павильон был стилизован на тему построек Московского Кремля (8). Спустя 90 лет, в 2004 году, во время Олимпиады в Афинах макеты Кремля и Большого театра декорировали площадь Москвы, на которой размещалась фотовыставка о российской столице.
Хочется подчеркнуть, что макет — все же не выставочная, а театральная находка. Еще в середине ХVI века итальянский художник Себастьяно Серлио первым порекомендовал изготовлять макет сцены будущего спектакля. В то же время существуют музеи, в которых экспозиция состоит исключительно из макетов архитектурных объектов (Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана “Атамекен”» в Астане, Мадуродам в Голландии). Закономерно, что, подчиняясь законам теории коммуникации, архитектурный макет, шагнув за границы театра, не остановился и в музее, став всеобщим коммуникационным средством. Вспомним всевозможные парки развлечений (Диснейленд, Мини-сиам в Таиланде и др.), а также отели. Между тем все они имеют одного прародителя — театральную бутафорию.
Свою лепту в развитие нового жанра — искусства экспозиции — внесли художники, работавшие для театра. Одним из новаторов экспозиционного дела считается художник К.А. Коровин. В 1896 году известный промышленник и меценат С.И. Мамонтов поручил ему оформление павильона Крайнего Севера на Всероссийской художественнопромышленной выставке в Нижнем Новгороде. Кандидатура была выбрана не случайно, ведь художник был участником путешествия в Заполярье, организованного тем же С.И. Мамонтовым. Роль самого Мамонтова в открытии павильона не ограничилась финансированием, ведь он был, говоря современным языком, и режиссером-новатором, и предприимчивым продюсером, и даже музейным дизайнером. С подачи именно Мамонтова павильон превратился в настоящий мини-музей. Савва Иванович был автором многих задумок и яро защищал свои «продюсерские» проекты перед организаторами выставки. Так, официальные организаторы отказались включать в основной состав выставки работы («Микула Селянинович» и
«Принцесса Греза») приглашенного С.И. Мамонтовым М.А. Врубеля. Тогда С.А. Мамонтов на свои деньги построил отдельный павильон для этих работ. Как верно заметил профессор А.А. Аронов: «Савва Иванович Мамонтов был единственным бесконфликтным покровителем искусства Врубеля» (1, с. 29). Но вернемся в павильон Крайнего Севера, заходя в который посетители словно оказывались на одной из северных факторий. Вот как описывает оформление сам художник: «Вешаю кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов. Среди морских канатов, снастей — чудовищные шкуры белух, челюсти кита. Самоед Василий, которого я тоже привез с собой … меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас живой, милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой…». На стенах — тематические декоративные панно, которые «мирно соседствовали с фотографиями и натуральными экспонатами, и это соседство еще больше подчеркивало подлинность созданных Коровиным образов» (5, с. 92). Имел опыт работы в театре и В.М. Васнецов, приглашенный Историческим музеем в начале 80-х годов ХIХ века для оформления экспозиции «Памятники каменного периода». В результате музей получил прекрасное декоративное панно «Каменный век», о котором французский археолог барон Жозеф де Бай сказал, что «художник “читает” зрителю в “Каменном веке” целый курс археологии». Декорационный подход был взят на вооружение и региональными музеями. Так, в конце ХIХ века в Кавказском музее в Тифлисе для экспозиции о высокогорных обитателях была построена искусственная скала. Присутствовали на экспозиции и другие группы животных, а также группы кавказских племен (7, с. 20). В научных кругах композицию поругивали, но простые посетители были в восторге.
Успехом пользовалась и передвижная выставка Красноярского городского музея, на которой показывали «живые картины», иллюстрирующие природные особенности края и жизнь сибирских аборигенов (10). Несмотря на то, что концепция художественного образа была воспринята консервативно настроенной публикой с недоумением, всеобщий интерес к подобным экспозициям всегда был высоким. Благодаря театральному подходу, организаторам-новаторам удалось решить, по сути, первостепенную коммуникационную задачу — привлечь как можно больше зрительского внимания, заинтересовать даже праздного посетителя и сделать понимание экспозиций доступным для всех слоев общества.
Начиная с20—30-х годов ХХ века интерес музея к театральным средствам выразительности то затихал, то разгорался с новой силой. После Октябрьской революции 1917 года руководство страны было вынуждено привлечь все формы общественной коммуникации, в том числе и музейной, для агитации и пропаганды. И вот появились «музеи-театры», где с музейными предметами знакомили в форме театрализованных лекций на сюжет музейных легенд выставляемых экспонатов (Этнографический театр Государственного русского музея). В 60—70-е годы ХХ века развернулась новая, теперь уже международная, дискуссия о привлечении новых экспозиционных форм и значении образного подхода (М. Маклюэн, Д. Камерон, А.М. Разгон и др.). В 70—80-е годы ХХ века активно рассматривалась проблема роли сценария как особой формы проектирования музейной экспозиции (М.Б. Гнедовский, Ю.П. Пищулин, Ю.А. Решетников и др.). Сценарные разработки не получили широкого распространения в отечественном музееведении, зато всеобщее признание получило утверждение: «Для человека оценка воспринимаемой информации без эмоциональной окраски невоз- можна» (6, с. 97). В период перестройки всей хозяйственной структуры страны, когда остро встал вопрос о необходимости коммерческих отношений, стали вновь искать действенные пути привлечения внимания посетителей и общества в целом. Именно тогда театральные средства выразительности в музейной коммуникации стали популярны как никогда (Т.П. Поляков, Н.В. Мазный, Е.А. Розенблюм и др.). Под всеобщим натиском «сдаются» даже известные в музейном мире консерваторы, такие, например, как А.Б. Закс, предложившая «создать художественный образ исторической действительности» и при помощи разнообразных оформительских средств придать экспозиции «развлекательный характер». Оформляется осознание того, что музейная экспозиция «не учит, а пробуждает ассоциации, рождает образы, мысли и чувства…» (3).
В наше время роль музейного дизайна по-прежнему велика, а новейшие технические достижения театрального декорационного искусства с удовольствием берутся музеями на вооружение. Прежде всего это театральный свет и спецэффекты, которые, несомненно, придают экспозиции зрелищность и незримую динамику. Как, например, в экспозиции «Сказки Пушкина» в Литературном музее им. А.С. Пушкина, где декорация-трансформер и грамотно подобранный цветной свет преобразили небольшой зал в сказочное Лукоморье. Интересна и программа «Живая планета», подготовленная при помощи сложного светового оборудования и лазерных установок в Государственном Дарвиновском музее. Но несомненной фавориткой современной музейной коммуникации является театрализация. Театрализованные экскурсии и костюмированные праздники на территории музеев давно стали нормой, особенно в музеях-усадьбах. Приглашаемые артисты становятся дополнительными атрибутами пространственновременного континуума музея. Удачным музейным проектом с элементами театрализации стали ежегодные Дни исторического и культурного наследия Москвы. Принять в них участие почитают за честь ведущие столичные артисты. Кстати, участие корифеев в экспозиционных проектах — не новшество. Еще в 1882 году в рамках Всероссийской промышленнохудожественной выставки серию концертов дал симфонический оркестр под управлением А.Г. Рубинштейна, а для открытия Политехнической выставки, приуроченной к 200-летию Петра I (Москва, 1872 год), свою новую кантату выслал П.И. Чайковский (8).
Важно понимать, что театрализация, как впрочем, и все другие средства выразительности, правомерна только тогда, когда не подменяет экспозицию, а оттеняет ее, делая более привлекательной для неотягощенного научными знаниями посетителя, то есть когда театральный подход не выходит за рамки вспомогательного средства. При соблюдении этого условия театральные средства и приемы — идеальные коммуникационные средства для музея любого профиля. Во-первых, они всегда привлекают внимание, доступны всеобщему восприятию и их коммуникационные возможности проверены различными общественными институтами и не одним поколением зрителей. Во-вторых, способны решить проблему внутреннего темпоритма экспозиции, так как целенаправленно создаются для внешнего, а не внутреннего действия. В-третьих, они априори не претендуют на доминирующее положение, изначально являясь лишь средством, а не самоцелью. Как и в театре, когда все элементы оформления должны не демонстрировать себя, а способствовать максимальному раскрытию исполнительского искусства. В-четвертых, они не являются константой, а значит, мобильны и дают возможность для бесконечных экспозиционных интерпретаций. Музейным работникам остается только найти их верную дозировку.