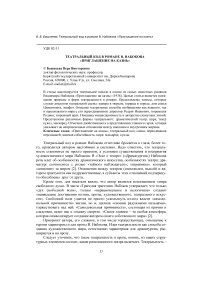Театральный код в романе В. Набокова "Приглашение на казнь"
Автор: Башкеева Вера Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется театральное начало в одном из самых известных романов Владимира Набокова «Приглашение на казнь» (1936). Целью статьи является понимание природы и форм театральности в романе. Представлены топосы, которые служат аналогом театральной сцены: камера в тюрьме, терраса в городе, дом семьи Цинцинната, эшафот. Описаны театральные способы изображения как вещного, так и персонажного мира с его переодеваниями: директор Родриг Иванович, тюремщик Родион, тюремный врач. Показана мизансценичность и авторство сюжетных линий. Представлены различные формы театрального: драматический театр, цирк, театр кукол, маскарад. Отмечена двойственность в представлении главного героя, которая указывает на непроясненные отношения между внешним и внутренним мирами
"приглашение на казнь", театральный код, сцена, переодевания персонажей, мнимая событийность, цирк, маскарад, куклы
Короткий адрес: https://sciup.org/148316589
IDR: 148316589 | УДК: 82-31
Текст научной статьи Театральный код в романе В. Набокова "Приглашение на казнь"
Театральный код в романе Набокова отчетливо бросается в глаза, более того, проводится автором настойчиво и системно. Надо отметить, что театральность становится не просто приемом, а условием существования и восприятия художественного мира Набокова. В «Эссе о театре» («Драматургия») Набокова речь идет об особенностях драматического искусства, особенностях театра: драматург соотносится с ролью «тайного наблюдателя», «наушника», который «шпионит» за миром [2]. Отношения между театром (спектаклем, пьесой) и автором трактуются как недружественные, а субъекты этих отношений подчеркнуто обособлены друг от друга.
Кроме того, для писателя важно, что автор является воплощением «мира свободного духа». В части «Трагедия трагедии» Набоков утверждает, что только «дух свободной воли», только «нерациональное и нелогичное» создают «наивысшие достижения поэзии, прозы, художественного, театрального искусств». Свободной воле удается не просто ускользнуть из-под власти «самодовольной причинности» жизни, но и, щелкая «своими радужными пальцами», торжествовать над ней. «Самодовольная причинность», состоящая из причин и следствия, ведет нас к «океану смерти». «Самое главное – та особая атмосфера, которая символизирует создание автором своего собственного мира» [2].
Приоритет автора, его сложное, в том числе торжествующее, отношение к героям характерны и для прозы В. Набокова. Идея театральности как способа создания художественного мира, естественно характерная для драматургии, расширяется и на прозу.
Следует уточнить, что такое театральность в прозе, понять, из каких структурных элементов состоит, какие разновидности театра включает. Театральность – это способ создания художественного мира, ориентированного на специфику театра и перенимающего важные его системообразующие особенности. Если бросить ретроспективный взгляд на историю русской литературы, то логично предположить, что театральность есть развитие на новом этапе старого принципа живописности, характерного для художественного поиска первой трети XIX в. [3]. И в том, и в другом случае невербальное искусство – живопись, театр – становится источником развития литературы, внесения в нее нового взгляда и новых художественных способов или приемов.
На театральное начало у Набокова обращали внимание многие авторы: В. Варшавский, С. Давыдов, Н. Букс и другие. Так, современный исследователь конкретизирует признаки театральности: граница между мирами как аналог театрального занавеса, мизансценирование, декорирование пространства, куколь-ность, присутствие персонажа-актера и мнимой публики [6].
Театральность в романе «Приглашение на казнь» начинается с особого видения мира, связанного со сценой и игрой в иное. Камера в тюрьме, в которой сидит Цинциннат, напоминает театральную сцену. Она обставлена подобно сцене, имеет театральную бутафорию, к которой следует отнести прежде всего паука с паутиной, к образу которого писатель обращается с завидным постоянством. Много раз делаются откровенные заявления о том, что паук не настоящий – «бархатный», а паутина новая. Одновременно подчеркивается, что паук съедал мух, принесенных Родионом. Ближе к финалу в XIX главке Родя (Родриг), разрушая камеру метлой, снял и паука, который, как выясняется при близком рассмотрении, был сделан из плюша и висел на резинке.
Двоение смыслов, когда паук одновременно плюшевый и живой, в целом характерно для театрального романа Набокова. Как будто неодушевленная материя начала путь к жизни, но остановилась. Или, наоборот, живое начинает свой путь к вещному. По сути, это та игра между живым и мертвым, одушевленным и механистичным, движущимся и обездвиженным, что давала о себе знать в произведениях Н. В. Гоголя. В эту игру встраивается изображение часов, которые должны бы ходить, а не ходят.
На умерших, бутафорских часах сторож каждые полчаса смывает старые стрелки и рисует новые, а часовой производит звон. Игра воплощается не в обычных метафорах или ограничивается персонажным уровнем. Круг ее шире. Метафоры приобретают здесь вещную природу и потому реализуются [8], в частности, метафора остановившегося времени.
Камера – главная сцена в художественном театре Набокова. В ней происходит главное действие романа – переживание ожидания казни. Достаточно часто мелькают привычные персонажи, то входящие, то выходящие из камеры. Особо яркой театральностью отличается сцена посещения Цинцинната семьей Мар-финьки. Семейство, состоящее по крайней мере из девяти персон, перемещается в камеру не персонажно, т.е. обычным явлением людей-актеров, а комплексно – сцена из дома с его вещным антуражем и прибывшей черной кошкой просто накладывается на сцену камеры. Интересно, что вещи (кожаное кресло, стулья, столик с инкрустациями и др.) прибывают не только с мелкими деталями вроде гранатового флакона и шпильки на столике, но и со своими отражениями. Так, зеркальный шкаф явился «со своим личным отражением» [1, с. 56] уголка супружеской спальни.
Камера – не единственная в романе театральная сцена. Писатель вообще мыслит категориями сцены, и связана она может быть с самыми разными топосами. Так, во время предсмертного ужина в городе сценой становится терраса: «раздвинули, с треском деревянных колец, занавес: открылась, в покачивающемся свете расписных фонарей, каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады» [1, с. 107–108].
Или самый важный с точки зрения значимости финальный топос-сцена – красный эшафот с плахой на квадратной площади. Зрителей у этой сцены предостаточно, весь город собрался наблюдать за казнью. Причем почти сразу по прибытии главных действующих лиц на площадь сцена начала показывать свою бутафорскую природу: «…с солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась», и один из тополей начал падать [1, с. 127]. Эта бутафорская природа сцены имеет универсальный характер, ибо разрушается не только вещный мир, но и природный («рвущиеся сетки неба»), и персонажный («Зрители были совсем, совсем прозрачны, и уже никуда не годились» [1, с. 130, 129].
Сама внешность героев может быть театральна. Что-то от восточного театра, преломленное через искусство модерна, видится во внешнем виде адвоката Романа Виссарионовича: «Его крашеное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли» [1, с. 20]. По-особому выразительна, с акцентом на телесность, внешность директора тюрьмы и палача Пьера.
Артисты время от времени дают нам понять, что они способны к заменам ролей. Знаком этого обычно являются переодевания. Так делает директор тюрьмы Родриг Иванович, который меняется ролями с тюремщиком Родионом, потом опять превращается в себя. Порой это обычное, вполне театральное переодевание, когда берется деталь костюма, антураж из чужой роли и нахлобучивается на себя: директор надевает «кожаный фартук и рыжую бороду» [1, с. 38] Родиона, чтобы прибраться в камере. Или отбрасывает его метлу и надевает свой сюртук после завершения прогулки с адвокатом и Цинциннатом. Возможны более сложные формы превращений, близкие к метаморфозам. Так, возможное перевоплощение директора в Родиона абсолютно внезапно, неожиданно, без внешних костюмных знаков и упреждающих стилистических фигур, так, что в начале речи невесть откуда явившегося Родиона слышны еще лексика и интонации директора – «гордость, гнев, глум» [1, с. 22], и лишь потом появляется стилистика Родиона.
Родриг Иванович превращается и в тюремного врача. В этом превращении много загадочного, так как он не полностью сливается с новой ролью. Сквозь антураж врача проглядывает условное лицо директора: «Мы нервозны, как маленькая девочка, – сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович» [1, с. 32]. Это зияние образа прежнего героя в новом особенно заметно в момент отправления на казнь, когда мсье Пьер является в камеру в сопровождении помощников Роди и Ромы, в которых «почти невозможно было узнать директора и адвоката: осунувшиеся, помертвевшие, одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки – без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимися глаза- ми, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом» [1, с. 120]. Как будто Набоков дает спектр вариантов игрового поведения.
Театральность проявляется в том, как обставлена история появления палача Пьера в тюрьме, согласно которой он был осужден за желание спасти Цинцинна-та. Эта версия не подтверждается Пьером на сто процентов, он уклоняется от определенного ответа, уклончиво сообщает, что попал сюда из-за Цинцинната., но сам намек весьма значим.
Герои разыгрывают свои сценарии. Так, директор вместе с Родионом ведут линию разыгрывания Цинцинната. Она проявляется в позволении ему прогуляться по коридорам в момент уборки камеры, во встречах с Эммой, другими. Ярко-театральна мизансцена, когда герой стоит за занавесом и ждет своей минуты для выхода на сцену. Имеется в виду излишне поспешный выход нетерпеливо ждавшего за дверью Родрига Ивановича, которого Родион после оглашения записки о переносе свидания с родными зовет по просьбе Цинцинната.
Кто воплощает эти сценарии? Это зависит от того, кто является режиссером мизансцен. Сценарная линия Родрига Ивановича связана с ложной заботой, легкими издевательствами, почти родственными обидами. Сценарная линия Пьера наполнена идеей ложной дружбы, странным покровительством, постепенно нарастает властность персонажа, чтобы в конце обернуться совершенно иным -пренебрежением со стороны забывшего о нем автора.
Самый главная сценарная линия связана, конечно, с автором, который в полной мере открывается в развязке «Приглашения на казнь», позволившей воочию увидеть созданность, сделанность, кукольность мира, претендовавшего на то, что имеет свои законы существования, преступления и наказания.
В. Набоков по-своему цитирует Достоевского, даже в фонетической близости названия: «Пре ступление и наказан ие» - «При глашение на казнь ». «Даже само название набоковского романа напоминает заглавие романа Достоевского «Преступление и наказание» - созвучное произношение, использование одного и того же значимого корня, одинаковая синтаксическая (и визуальная) конструкция» [10]. Преступления, получается, не было, так как мир, обвинивший Цин-цинната, развеялся, как дым. Повествование же посвящено пролонгированному наказанию, кульминация которого так и не случилась. Это означает наличие мнимой событийности, мнимой сюжетности, дезавуирование сюжетности, событийности в повести. Вместо этого в центре повествования - острые психологические поединки, психологические розыгрыши и драмы.
Театральное начало в форме драматического театра усложняется включением других культурных кодов. Так, упоминание арены, на которой происходит цирковое действие, трюки Пьера, поднимающего стул одной рукой, встающего на руки, а затем - как кульминация - в положении на руках поднимающего стул зубами, - все это очевидно работает на подключение циркового кода.
Еще один код связан с театром кукол, с идеей куклы. Когда Цинциннат думает, что пришел день казни, то в сердцах произносит: «Благодарю вас, кукла, кучер, крашеная сволочь…» [1, с. 31]. Герой убежден, что его окружают куклы: в более позднем разговоре с Пьером, не поддаваясь на уговоры последнего считать тюремщиков сердечными, «трогательными» людьми, заявляет: «…я в куклах знаю толк. Не уступлю» [1, с. 64].
Как будто парадоксальным образом кукольность связана с идеей призраков, привидений. Не раз Цинциннат называет окружающих этими словами: «Я покоряюсь, вам, призраки, оборотни, пародии» [1, с. 22]; «Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен» [1, с. 39]. Связь призрака с куклой скорее органична, чем неочевидна. В кукле нет внутреннего, все вовне, кукла сугубо материальна, телесна. В призраке нет внешнего, все внутри, призрак антителесен, он вне материи вещества. И эта полярность свидетельствует как раз о том, что кукла нуждается в призраке так же, как призрак - в кукольности.
Здесь работает такая специфическая культурная форма, как психологический маскарад ∗ . Палач хочет представиться непалачом, соседом, даже другом. «Разрешите мне на правах дружбы...» - заявляет едва ли не в первой беседе Пьер. Более того, палач рядится в одежды филантропа, заявляя как опытный ритор во время первой встречи: «Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит его игрушку? М-сье Пьер. Кто заступится за вдовицу? М-сье Пьер...» [1, с. 48] и т.д. Тюремщик Родриг Иванович хочет предстать заботливым директором, иногда претендует на то, чтобы предстать в роли едва ли не отца семейства. Тюрьма как семья, узники как члены семейства, должные радоваться своему пребыванию в тюрьме.
При этом маска, надеваемая героями, держится длительное время. Весь период пребывания Цинцинната в тюрьме Родриг Иванович претендовал на статус добрых отношений, обижался, когда не оценивались его действия. Не говоря уже о Пьере. Долговременность пребывания в надетой маске требует вовлеченности во все аспекты взаимодействия между персонажами. Есть в тексте и другое понимание театральности, представленное также Цинциннатом. В день, когда должна состояться казнь, но герой об этом не подозревает, он пишет записку о театральном, которое обманывает. И к нему относятся «влажный взгляд матери, стук за стеной, доброхотство соседа», «холмы, подернувшиеся смертельной сыпью» [1, с. 118]. Все это были выразительные детали, намекавшие или даже вовлекающие в возможность спасения. Театральное здесь равноценно выразительным декорациям, которые оказываются только декорациями, и равносильно безуспешным попыткам спастись от судьбы.
Все формы театрального создают широкий спектр возможных игровых моделей. В любом случае это особый театр, когда у персонажей нет внутреннего стержня, нет постоянства проявлений, нет стабильности. Отсюда их превращения в кого угодно, в соответствии, разумеется, с условиями заданной игры. В классической литературе за постоянством внутреннего мира следует постоянство внешности. Если герой переодевается, он именно переодевается. Меняется внешность, герой осознает, что он играет роль, так, как это происходит, например, в повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка».
* С. Т. Филиппова отмечает еще кинематографический ракурс: «Отметим предметную детализацию; частое включение в повествовательную ткань описаний пейзажа, портрета, снов, “видений”; периодическое использование начальной формы имен существительных и настоящего времени глаголов, что приводит к созданию “кинематографического эффекта” - показу объектов крупным планом!» [9].
У Набокова эти отношения смещены. Внутреннее непостоянство позволяет герою превращаться в иное лицо. Набоковский вариант не укладывается в типологию сюжетного комплекса «переодевание», когда переодевание связано с гендерными, матримониальными или социальными задачами [7]. И это может быть обычное театральное переодевание, как в случае с Родионом, или превращение с удвоением личности героя, как произошло с тюремным врачом, директором тюрьмы, иными персонажами.
Театральный код не означает полного погружения в иную реальность и растворения в ней. Любой код ощутим тогда, когда есть граница, приобщенность к различным мирам, уже сама по себе чреватая конфликтом. В данном случае это, конечно, конфликт между тем, что или кого из себя представляет Цинциннат, и тем, что являет собой мир, в котором герой живет. По сути, герой прежде всего противопоставлен миру, который вроде бы поймал его в сети. Он явился из иного мира, он антропологически отличается от всех в здешнем мире [4, c. 121].
Хотя В. Набоков и в случае с главным героем оставляет лазейку для двойственной, неокончательной интерпретации. Это известный эпизод, когда Цин-циннат снимает с себя по частям тело. Двойственность характерна и для его саморефлексии, он в постоянном процессе постижения себя, и в то же время он не постиг себя. В нем нет той кукольности, которую он постулирует в других, но в нем нет и цельности, которая в идеале присуща ангелу, чистой душе или нашедшей себя личности. Его двойственность указывает на непроясненные отношения между внешним и внутренним мирами. Во внешнем он в целом подчиняется условиям постановочных бутафорий, во внутреннем стремится приобщиться к себе настоящему. И в этом смысле он находится в состоянии кризиса, кукольность уже частично проникает в него. Однако воля автора-демиурга выталкивает героя из данной театральной постановки в другую реальность. У Набокова «персонаж не может быть выше автора и стать Magister ludens, поэтому подменяется на симулякр как игровую функцию без надежды стать личностью» [5]. Будет ли это новый театр или настоящее бытие, мы можем только предполагать.
Список литературы Театральный код в романе В. Набокова "Приглашение на казнь"
- Башкеева В. В. От живописного портрета к литературному: Русская поэзия и проза конца XVIII - первой трети XIX века. - Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999.
- Башкеева В. В. Антропология кажущегося в романе В. Набокова "Приглашение на казнь" // Вестник Бурят. гос. ун-та. Язык. Литература. Культура. - 2019. - № 3. - С. 119- 123.
- Васильева М. А. Между вещью и человеком: этико-антропологическая проблематика в романе В. Набокова "Отчаяние" [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-veschyu-i-chelovekom-etiko-antropologicheskaya-problematika-v-romane-v-nabokova-otchayanie (дата обращения: 22.02.2019).
- Корнева Н. Б. Театральность прозы В. Набокова: романы немецкого периода (1922-1937 годы) [Электронный ресурс] // Художественная культура русского зарубежья, 1917-1939: сб. ст. URL: https://culture.wikireading.ru/72510 (дата обращения: 22.02.2019).
- Набоков В. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. - Москва: Правда, 1990. - 480 с.
- Набоков В. Эссе о театре [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/NABOKOW/ esse.txt (дата обращения: 22.02.2019).
- Ромодановская Е. К. Сюжетный комплекс "переодевание" и мотив потери одежды в повестях о гордом царе [Электронный ресурс] // Критика и семиотика. - Вып. 14. -Новосибирск, 2010. - С. 29-35. URL: http://www.philology.ru/literature2/romodanovskaya-10.htm (дата обращения: 22.02.2019).
- Смирнова Т. Роман В.Набокова "Приглашение на казнь" [Электронный ресурс]. URL: http://nabokov-lit.ru/nabokov/kritika/smirnova-roman-priglashenie-na-kazn.htm (дата обращения: 22.02.2019).
- Филиппова С. Т. Визуальная доминанта картины мира В. Набокова и ее текстовая репрезентация [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-dominantakartiny-mira-v-nabokova-i-ee-tekstovaya-reprezentatsiya (дата обращения: 22.02.2019).
- Шепелев А. Достоевский в художественном мире Набокова [Электронный ресурс]. URL: https://omiliya.org/article/dostoevskiy-v-hudozhestvennom-mire-nabokova-aleksey-shepelyov (дата обращения: 22.02.2019).