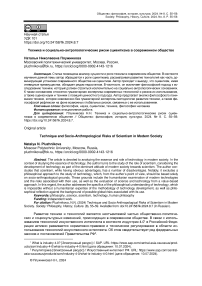Техника и социально-антропологические риски сциентизма в современном обществе
Автор: Плужникова Н.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сущности и роли техники в современном обществе. В контексте изучения данной темы автор обращается к роли сциентизма, рассматривая развитие технологий как часть доминирующей установки современного общества на сциентизм. Автор приходит к выводу, что сциентизм, имея очевидные преимущества, обладает рядом недостатков. В частности, он исключает философский подход к исследованию техники, который должен строиться исключительно на социально-антропологических основаниях. К таким основаниям относятся гуманитарная экспертиза современных технологий и рисков их использования, а также оценка науки и техники с позиций ценностного подхода. Автор предлагает анализ философского понимания техники, которое невозможно без гуманитарной экспертизы методологии развития техники, а также философской рефлексии на фоне возможных глобальных рисков, связанных с ее использованием.
Философия, наука, сциентизм, техника, философия человека
Короткий адрес: https://sciup.org/149146449
IDR: 149146449 | УДК: 101 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.7
Текст научной статьи Техника и социально-антропологические риски сциентизма в современном обществе
Московский политехнический университет, Москва, Россия, ,
,
Развитие техники и технологий является неотъемлемой частью общественно-политических и социокультурных изменений, происходящих в современном обществе. В связи с использованием технологий искусственного интеллекта в контексте индустрии 4.01 в Российской Федерации активно развивается нормативно-правовое и техническое регулирование в области использования технологий искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует ряд федеральных законов и постановлений Правительства РФ2.
Однако важно, что при всем внимании к правовым аспектам в сфере искусственного интеллекта, а в широком смысле – к развитию техники и технологий философские аспекты изучения сущности техники и социально-антропологические риски ее использования практически не освещены в научной литературе. Разработка философских оснований техники велась в основном философами-экзистенциалистами первой половины ХХ в. (К. Ясперсом, М. Хайдеггером), а также такими основоположниками философии техники, как Э. Капп, П.К. Энгельмейер. Однако современное исследование техники с учетом технократизма как части сциентисткого проекта развития цивилизации (Плужникова, 2018) в философской литературе отсутствует.
Методология исследования представлена методом сравнительного историко-философского анализа интерпретаций техники в философии экзистенциализма и трудах основателей философии техники, а также опирается на анализ современных исследований в области сциентизма и технократизма. Так, степень разработанности данной проблемы прослеживается в трудах Д.В. Пивоварова (2014), Д.Н. Козырева (2007), О.М. Корчажкиной (2023).
Очевидным следствием развития сциентизма является технократическое мышление и превалирование естественных и технических наук над всеми остальными. На это указывают такие известные философы, как К. Ясперс, Э. Капп, П.К. Энгельмейер, а также современные мыслители А.В. Миронов (2009), В.А. Щуров (1995) и др.
Наука, являясь одной из подсистем общественной жизни, оказывает значительное воздействие на развитие общества. Безусловно, основная функция науки – функция познания и социального преобразования мира (Лекторский, 2012). Известный немецкий мыслитель М. Хайдеггер писал о месте науки в системе культуры, считая науку особой духовной и творческой деятельностью человека (1986). Однако акцент на первоочередном значении науки в решении всех общественных проблем, превалирование научного знания над остальными сферами общественной жизни, что и составляет суть сциентизма, создают определенные риски для существования общества и человека на современном этапе развития.
Очевидным следствием подобного подхода является превалирование естественных и технических наук над всеми остальными. Формируется научный фанатизм, догматическая вера в науку как лекарство от всех болезней, способ достижения человеческого счастья (Azam, 2018).
Однако сциентизм, задавая определяющую роль научным достижениям и технологиям, отводит второстепенную роль изучению сущности техники. Этот вопрос лежит в области философии науки. Игнорирование данного вопроса только односторонне позволяет взглянуть на место науки в обществе, а также не проясняет суть таких понятий, как техника, технологии, интеллект, разработки которых необходимы для прикладных исследований.
Актуальность осознания и философской рефлексии над социально-антропологическими рисками сциентизма и техники очевидна, поскольку сегодня мы видим активное использование техники не только в мирных целях, но и в военных. Поэтому цель исследования заключается в анализе сущности и роли техники в современном обществе посредством решения следующих задач:
-
1. определение техники с позиций сциентизма и технократизма;
-
2. выявление социально-антропологических рисков использования технократического и сциентистского подходов к технике в современном обществе.
В самом общем определении под техникой понимается техническое устройство, т. е. искусственно созданные объекты человеческой деятельности, возникшие в результате развития общества. Если предметом технической науки является техническое знание, то предметом философии техники выступает развитие технического сознания в процессе обращения человека с техникой, поскольку техника развивается исторически. Другими словами, основой философии техники служит техническое отношение человека к миру, техническая мера понимания, а также проблемы сущности техники, ее развития и влияния на человечество.
Техника в древнегреческом языке («техне») означала «ремесло», «искусство» в аспекте практической деятельности человека, т. е. заложение создателем смыслов и значений в технику через материал, форму, функцию. Осваивая технику, именно человек определяет уровень ее развития, новизны, применимости и обеспечивает возможность внедрения инновационных технических идей, их реализацию на практике. Без функционирования человека развитие техники в обществе невозможно. В этом и заключается ее социально-антропологический смысл.
Технические науки занимают лидирующее положение в современном цивилизационном развитии в связи с развертыванием четвертой промышленной революции, формированием систем умного города, умного дома, умной фабрики. Развивается философия искусственного интеллекта, теоретические и практические исследования в области взаимодействия искусственного и естественного интеллекта.
Усложнение и совершенствование сферы производства привели к сложности организации самой инженерной деятельности, которая включает конструирование, проектирование, оценку последствий этой деятельности. Происходит специализация инженерной деятельности по различным областям. Так, например, в рамках машиностроения возникают электротехническая промышленность, радиоэлектроника, химические технологии, биотехнологии и другие виды инженерии.
Для координации этой деятельности привлекают не только инженеров, но и гуманитарных специалистов, которые оценивают влияние техники и технической деятельности на человека, проводят экспертизу технической деятельности: «Между обществом как системой и наукой как ее подсистемой должен существовать механизм обратной связи, при нарушении которого, проявляющегося в невнимании политиков и экономистов к мнению ученых, отсутствии глубокой научной проработки проблем, возникают многие беды, которые имеет сейчас человечество (экологические катастрофы, создание оружия массового поражения)» (Блашенков, 2012: 24).
Игнорирование гуманитарной экспертизы усиливает сциентизм. В современном мире сциентизм представляет собой особый философский и культурный феномен, а также методологическую установку, которая признает особый статус науки, возводя ее в превосходную степень по отношению к остальным общественным явлениям и процессам: «Наука – это, пожалуй, самое успешное занятие, которым когда-либо занимались люди. Заманчиво думать, что она также должна отвечать на важные вопросы жизни: почему мы здесь и есть ли у жизни цель. Подобные надежды дают толчок современным версиям секуляризма. В то же время полностью сформировавшийся сциентизм, идея о том, что только наука дает достоверные знания о мире, остается непопулярной в академии, отчасти потому что она игнорирует эти экзистенциальные вопросы. …нетрудно понять, что ни наука, ни какие-либо мыслимые достижения науки не могут ответить на экзистенциальные вопросы. Тем не менее неявные версии сциентизма остаются влиятельными в академическом мире»1.
Под сциентизмом мы понимаем такую мировоззренческую и методологическую установку, в которой наука объявляется абсолютным и единственным ориентиром для других общественных и культурных феноменов. Подобная абсолютизация науки приводит к тому, что все остальные социальные и культурные элементы жизни общества воспринимаются как производные от науки и техники. Если говорить об истории развития сциентизма, то наиболее ярко он проявил себя в Новое время, а затем в XVIII в., став доминирующей установкой в культуре и философии. Сциентизм также трактуется как следствие разрушения фундаментальных религиозных оснований культуры, поворота от религии к науке, технологии, научно-техническому прогрессу.
Сциентизм сосредоточен на когнитивной функции науки, ее познавательной и образовательной роли в обществе. Однако он упускает из виду ценностный компонент познания: технологии, меняющие общество, несут в том числе изменение мышления человека, его навыков и прежде всего его ценностей.
Термин «сциентизм» фигурирует в литературе в разных значениях. Он часто применяется в негативном смысле для обозначения ненадлежащего использования науки или научных утверждений. Обвинение в сциентизме часто выступает в качестве контраргумента для апелляций к научному авторитету в контекстах, где наука может быть неприменима, например когда тема понимается как выходящая за рамки научного исследования.
Стоит отметить, что английское слово «сциентизм» не всегда имело негативный оттенок. В середине XIX в. – вскоре после того, как старое, более широкое толкование понятия «наука», в котором оно могло относиться к любой систематизированной совокупности знаний, независимо от ее предмета, уступило место современному, более узкому употреблению, при котором оно относится к физике, химии, биологии и т. д., но не по отношению к юриспруденции, истории, теологии, – слово «сциентизм» было нейтральным: оно означало просто «привычки и способ самовыражения человека науки» (Haack, 2012: 78). Его использование в начале ХХ в. было нейтральным, описательным, термин служил синонимом логического позитивизма. Затем термин «сциентизм» начал приобретать отрицательную коннотацию.
Понятие «сциентизм» в условиях господства техники и технологий в современном обществе представляет собой мировоззренческую установку, которая признает, что наука имеет власть над всеми другими интерпретациями жизни, такими как философские, религиозные, мифические, духовные или гуманистические.
В философии науки термин «сциентизм» часто подразумевал критику наиболее экстремальных проявлений логического позитивизма. Он использовался социологами (Ф. Хайеком), философами науки (К. Поппером) и такими философами, как Х. Патнэм и Ц. Тодоров, для подтверждения логического позитивизма, научная методология которого утверждает сведение всех знаний только к тому, что поддается измерению или подтверждению.
В более широком смысле сциентизм часто интерпретируется как наука, применяемая «в избытке». Термин «сциентизм» также имеет значение неправильного использования науки или научных утверждений. Это употребление в равной степени фигурирует в контекстах, где наука может быть неприменима, например когда тема воспринимается как выходящая за рамки научного исследования, и в контекстах, где недостаточно эмпирических данных для обоснования научного вывода.
В условиях сциентистской технократизации действительности изменяется не только мышление, но и знание. Наиболее ярко, на наш взгляд, эту трансформацию можно показать, если представить само знание в виде метафоры двухэтажного дома. Первый этаж – это знание, которое направлено во внешний мир: оно строится на основе получения, обработки и передачи информации о природе, социальных процессах, интерпретации тех или иных социокультурных текстов. Второй этаж здания – основной, «несущий»: здесь знание «вопрошает» о себе самом, делает самого себя собственным бытием. Оно совершает онтологический рефлексивный поворот в область знания о самом себе как область собственного незнания, обращается к бытию. Здесь познающий субъект оказывается один на один с самим собой, с собственной «эпистемологической темнотой». Здесь нет готовых шаблонов, информации, теории, поскольку знание создается по мере освоения знания о самом себе, т. е. содержания полученной и обработанной информации. Здесь, на этом этаже, мы можем обсуждать, например, такие явления, как интернет вещей, социальный майнинг и другие понятия технической сферы, однако это обсуждение никогда не прояснит характер и природу знания как такового.
Без прояснения этого невозможен, на наш взгляд, никакой духовный поиск и научное исследование. Другими словами, без движения по «второму этажу» невозможно дальнейшее движение на «первом этаже». Условием движения познания на «втором этаже» является наличие интеллектуального напряжения и интеллектуальных ресурсов мышления, которые позволяют познающему субъекту высветить наиболее значимые проблемы познания мира в целом.
Можно сказать, что мы возвращаемся к мысли П. Фейерабенда о том, что привилегированное положение науки ведет к формированию технократического мира, который представляет собой угрозу демократии, сращивает науку с капиталом, паразитирует на всех остальных областях знания (2010: 125–130).
Безусловно, техника создает условия для развития человека в будущем, однако в рамках технического прогресса снижается качество образования, ухудшается память, способность к рефлексии, распространяется клиповое мышление, появляются формы экзистенциального одиночества человека в культуре, множатся виды различных зависимостей, в том числе эмоциональных. Поэтому способность управления техникой тесно связана с проблемой воспитания, обучения, формирования культуры мышления личности, особого отношения к техническому творчеству. Можно сказать, что сегодня технические науки становятся ядром анализа гуманитарного знания. В настоящее время ученые пишут о развитии и когнитивных технологий, которые влияют и на развитие техники.
Резюмируя сказанное, мы пришли к следующим выводам.
-
1. С позиций технократизма и сциентизма техника становится инструментом управления мышлением и ценностями человека, выполняет нормативную функцию, задает режим существования человека в искусственно созданной действительности.
-
2. Необходимым условием технизации и цифровизации деятельности человека в современном мире должна стать гуманитарная экспертиза, которая выявляет соответствие технических проектов реальным потребностям общества, характеру человеческого мышления, способствует осмыслению роли личности в техническом мире.
-
3. Современный человек в условиях развития техники должен быть не только профессиональным и креативным, но и нравственным. Антропологические основания связаны с вопросами о сущности техники и тех рисках, которые она несет обществу и человеку. Поэтому нравственные, этические аспекты оценки развития техники должны стать залогом успешного формирования цифрового общества.
Список литературы Техника и социально-антропологические риски сциентизма в современном обществе
- Блашенков А.Н. Сциентизм и антисциентизм как ценностно-мировоззренческие ориентации // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2012. № 1–2 (73). С. 20–25.
- Козырев Д.Н. Научная рациональность и сциентизм: попытка критического анализа // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 2007. № 23. С. 111–119.
- Корчажкина О.М. Сциентизм, техношовинизм и хаотизация знания // Психология обучения. 2023. № 1. С. 4–14.
- Лекторский В.А. Философия, познание, культура. М., 2012. 384 с.
- Миронов А.В. Технократизм – вектор развития глобализации. М., 2009. 130 с.
- Пивоваров Д.В. Сциентизм: культ «избранного ученого» // Евразия: духовные традиции народов. 201 4. № 1–2. С. 203–208.
- Плужникова Н.Н. Человек и его мышление в условиях технократизации действительности // Цивилизация – общество – человек. 2018. № 6–7. С. 27–28.
- Фейерабенд П. Наука в свободном обществе / пер. с англ. А.Л. Никифорова. М., 2010. 378 с.
- Хайдеггер М. Наука и осмысление // Новая технократическая волна на Западе: сб. ст. / отв. ред. П.С. Гуревич. М., 1986. С. 67–84.
- Щуров В.А Новый технократизм: феномен техники в контексте духовного производства: монография. Н . Новгород, 1995. 111 с.
- Azam K.M. The dogma of modernism: Scientism, secularism and laissez faire capitalism // Crescent International. 2018. Vol. 26, no. 19.
- Haack S. Six signs of scientism // Logos and Episteme. 2012. Vol. 3, no. 1. P. 75–95.