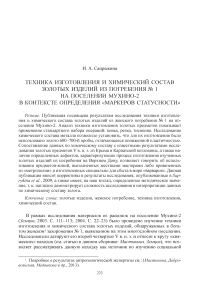Техника изготовления и химический состав золотых изделий из погребения № 1 на поселении Мухино2 в контексте определения «маркеров статусности»
Автор: Сапрыкина И.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 234, 2014 года.
Бесплатный доступ
Настоящая публикация посвящена результатам исследования технологии изготовления и химического состава золотых изделий, найденных в женском погребении № 1 в поселке Мухино2. Анализ техники, используемой для изготовления золотых предметов, показывает, что использовалась стандартная серия работ: ковка, резьба, тиснение. Анализ химического состава используемого металла позволил установить, что было использовано золото стандарта чистоты 600-700, которое было ниже нормальной пластичности. Сравнение данных, относящихся к химическому составу с зарегистрированными результатами исследований золотых предметов с 5-го в. AD в Крыму и Карпатской впадине, а также наличие определенных дефектов, характерных для производственного процесса должным образом изученных золотых предметов, позволяют предположить, что реплики использовались местными мастерами, которые либо были привезены из «мегаполис» или специально сделанный для продажи в варварском мире. В этой публикации были внесены некоторые изменения в результаты исследования, опубликованные автором ранее в 2009 году, и это важно с точки зрения методологии, поскольку он наиболее четко показывает, насколько сложно расследовать такие вопросы, а затем интерпретировать полученные данные, касающиеся к химическому составу золота.
Золотые изделия, женское погребение, техника изготовления, химический состав
Короткий адрес: https://sciup.org/14328629
IDR: 14328629
Текст научной статьи Техника изготовления и химический состав золотых изделий из погребения № 1 на поселении Мухино2 в контексте определения «маркеров статусности»
В рамках исследования материалов из раскопок на поселении Мухино-2 (Земцов, 2003. С. 111–113; 2004. С. 22–25) было проведено изучение техники изготовления и химического состава золотых изделий, обнаруженных в богатом женском1 захоронении № 1, выявленном на этом многослойном поселении. Исследователи датируют его второй четвертью V в. н. э. и относят к кругу «княжеских» находок (см. статью в данном сборнике: Мастыкова, Земцов), что позволяет рассматривать данную находку как источник по изучению социальной дифференциации восточноевропейских погребений по признаку богатства инвентаря.
Как правило, одним из основных индикаторов высокого социального статуса в погребальном контексте является наличие предметов из золота. Самые ранние захоронения, содержащие золотые изделия, датируются V тыс. до н. э.; исследователи относят такие находки к наиболее ранним документированным свидетельствам деятельности человека по добыче и обработке металлов, иерархической структуры древнего общества ( Перницка , 2013. С. 71). Изучение этих предметов с применением методов естественных наук позволяет получить дополнительные данные для решения определенных вопросов не только в сфере археометрии, истории ювелирного дела, но и социальной стратификации общества, положения конкретного индивидуума в социуме.
Из погребения № 1 с поселения Мухино-2 были исследованы следующие типы золотых изделий: наборы нашивных бляшек разных форм с тисненым рубчатым орнаментом, фрагменты обкладки ножен ножа и «шкатулки» 2 с чешуйчатым декором, фрагменты неорнаментированных обкладок. Помимо введения в научный оборот результатов химико-технологического исследования золотых предметов из погребения № 1 с поселения Мухино-2, данная работа вносит определенные коррективы в опубликованные ранее данные. В момент первой публикации в 2009 г. часть фрагментов обкладок с чешуйчатым декором не была полностью атрибутирована, поэтому все они по наличию орнамента были ошибочно отнесены к фрагментам обкладки рукояти ножа; в настоящей статье результаты химикотехнологического исследования рассматриваются соответственно типу изделия, с которым связаны анализируемые обкладки с чешуйчатым декором.
Исследование техники изготовления золотых изделий опиралось на результаты трасологического анализа, целью которого является фиксация следов технических операций. Наблюдения выполнялись с использованием бинокулярного микроскопа Motic BA-300, фиксация результатов проводилась с помощью цифровой фотокамеры Moticam 2300.
Химический состав металла исследовался с помощью рентгенофлюоресцентного энергодисперсионного анализа (РФА) (аналитик: Р. А. Митоян, МГУ) (табл. 1). Часть коллекции (обкладки ножен и «шкатулки») исследовалась также методом рентгеноэлектронной спектроскопии (РЭС) (аналитик: А. Ю. Тетерин, НИЦ «Курчатовский институт») и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) на электронном растровом микроскопе SEM JEOL JSM 6380 LA (аналитик: Г. Ю. Юрков, ИМЕТ РАН) 3 . Частично результаты этого исследования были опубликованы ( Saprykina et al. , 2009) 4 .
Таблица 1. Результаты исследования химического состава золотых изделий из погребения № 1 поселения Мухино-2 по методам РФА и РЭС
|
1s и m СР ч <и о к |
CZ2 |
ri ГЧ |
оо' ГЧ |
04 40, о? ГЧ |
осГ ГЧ |
СЧ оо^ rf |
Г1 2 |
2 |
|||||||||||||||||||
|
5 и |
ГЧ |
о |
|||||||||||||||||||||||||
|
В < |
ц~> |
2 4о" |
2 |
04 04, |
Г1г ехГ |
ОО °\ |
40 4R rf |
||||||||||||||||||||
|
6J3 С |
2 |
о |
40 |
2г 2 |
О\ 40 |
о |
|||||||||||||||||||||
|
1s к я 8 о S о к |
В < |
я |
2' ОО |
rf |
ОО Г1г оо' ГЧ |
2 |
2 |
04 4О" 40 |
2 |
ГЧ^ 40 |
40 О'? 40 |
04 2 |
2г 2 |
СЧ ОО^ 04" 40 |
^ч 04" |
оо' 40 |
40 |
о 2 |
r\f 40 |
ООг оо' 40 |
ГЧ ГЧ 40 |
о> ОО |
Г1 |
с2 2 |
04 2 |
я 40 |
2 |
|
6J3 С |
о> О'? |
ГЧ Г1г |
ОО °\ 2 |
о? 40 |
04 |
ГЧ |
ОО 40, |
ГЧ ОО |
О'? ГЧ |
04 Г1г |
ГЧ 40, |
04" СЧ |
04 2 |
rf |
2 |
О\ |
я ГЧ |
я |
о |
2 |
ООг |
^ч |
о^ |
04 |
|||
|
5 и |
2 rf |
V") |
ОО 40^ rf |
ГЧ rf |
rf |
% |
2 |
40 04 |
rg |
04 |
о |
ОО |
Г1 |
о |
04 |
04 ГЧ |
2 |
гЧ |
О |
R |
^ч |
04 оо^ |
40 оо^ |
||||
|
Л и на КО о о S В я о я В |
я * о к в ко о н 2ч |
я * о к в ко о н 2ч |
я к я ко о |
Я « В я 2 я К 8 Оч ко о я В |
в я ко о |
я « ко g о |
я ко g о |
Я « я 2 я Оч ко о я В |
В я о 8 я W м в а Я в я в я о Оч н |
я ко о |
я я ко я ко о |
в я 2 я о. ко я S |
в я 2 я ко я S |
в я 2 я л я о н |
а S ю о |
S я о S я м к а Я к я л я о |
я о к к « ко о н о. |
а S ю о |
S а к 5 3 я я ко о я S |
я а к 5 3 я я ко о я S |
я а к 5 3 я я ко о я S |
Я а ко к л я о н |
о ко к я S о Я ко я « ко о |
я а ко к л я о н |
я а ко к л я о 2 н |
я о к к ко о н 2ч |
|
|
S V о s 2 g S О В |
2 |
2 |
чо |
ГЧ 40 |
о |
ОО 1 40 |
V") |
40 ГЧ |
04 2 |
2 |
ОО |
4о" |
я |
го |
Г1 |
§ |
Os, |
я |
2 |
ОО |
40 >Г4 |
ГЧ ГЧ |
я Г1 ГЧ |
я |
2 |
2 |
|
|
Я ко в |
04 |
ГЧ 04 |
04 |
04 |
04 |
40 04 |
04 |
ОО 04 |
04 04 |
2 |
2 |
Г1 Г1 |
9 |
9 |
9 |
40 Г1 |
9 |
ОО Г1 |
04 Г1 |
Г1 |
Г1 |
ГЧ |
ГЧ |
ГЧ |
40 ГЧ |
ГЧ |
|
|
а |
’—1 |
ГЧ |
го |
я |
иг |
40 |
Г- |
ОО |
04 |
о |
Г1 |
2 |
2 |
40 |
ОО |
04 |
9 |
Г1 |
ГЧ ГЧ |
ri |
я |
2 |
40 ГЧ |
||||
Методы РФА и РЭС различаются по глубине проникновения излучения в толщу образца: в данном случае глубина проникновения РФА составляет более 0,5 нм 5 , а по методу РЭС - около 0,5 нм. При изучении золотых образцов толщиной менее 1 мм выбор нескольких неразрушающих методов исследования может быть оправдан, поскольку они позволяют исследовать химический состав на поверхности и в «сердцевине» образца ( Hultquist , 1985). Исследования по методу EDX (сканирование поверхности) в данном случае использовались нами для фиксации распределения элементов на поверхности и участков, обогащенных одним из элементов сплава, что немаловажно для интерпретации результатов анализов, выполненных другими методами.
На наш взгляд, публикация результатов имеет определенное методическое значение: полученные с помощью трех методов поверхностного анализа результаты показывают их зависимость от чувствительности выбранного метода, наличия пробоподготовки (к примеру, удаления микрозагрязнений с анализируемой поверхности и др.), мощности рентгеновской трубки, использования вакуума и т. д. В табл. 1 нами приведены данные как по РФА, так и по РЭС: так, на примере проб № 191, 192, 207, 217 мы видим значительные различия по содержанию как золота, так и серебра (даны крайние значения):
-
1) по методу РФА: Cu – 1,55–2,67 %, Ag – 14,22–34,39 %, Au – 63,75– 84,23%;
-
2) по методу РЭС: Ag – 55–70,3 %, Au – 1,98–16,67 %.
Такая же картина несовпадения результатов анализов по основным концентрациям элементов зафиксирована в пробах № 193, 195, 205, 208 (табл. 1).
Эти различия, вероятно, являются следствием малоизученных процессов поведения золота и серебра как на поверхности, так и в объеме образцов. Доказаны процессы сегрегации или диффузии серебра, которое «выпадает» на поверхность образцов, что естественным образом повышает концентрацию этого элемента при анализе ( Dowben et al. , 1987; Centeno, Schorch , 2000; Wanhill , 2003), однако точная причина этого процесса, в частности для археологического металла, и степень его влияния на концентрации элементов в настоящее время не установлены и требуют проведения дальнейших специальных исследований.
В рамках настоящей публикации интерпретация полученных результатов основывается на данных анализа по методу РФА 6 , поскольку основной объем сравнительных данных был получен с помощью именно этого метода исследования.
Обкладка деревянных ножен ножа сохранилась фрагментарно, представляет собой тонкую (толщиной около 0,5 мм) золотую фольгу. На лицевой и оборотной поверхностях фольги визуально фиксируются темные, почти черные, участки: если на обороте эти участки могут быть связаны со следами связующего органического вещества, то на лицевой стороне они могут маркировать участки, связанные с обогащением поверхности серебром. Предположительно фольга на деревянную основу ножен крепилась с помощью натурального клея. Чешуйчатый орнамент на фольге был нанесен с помощью специального фигурного чекана, однако неясно, в какой момент проводилась чеканка: до или после крепления фольги на деревянную основу. У оттиснутого орнамента имеется дефект в виде смещения «шага», этот дефект повторяется на части исследованных обкладок (цв. илл. XVIII).
Анализ химического состава металла был выполнен для четырех фрагментов обкладки (табл. 1; пробы № 191, 192, 207, 217). Содержание основных компонентов варьирует в пределах: Cu – 1,55–2,67 %, Ag – 14,22–34,39 %, Au – 63,75–84,23 %. Выполненное сканирование поверхности образцов по методу EDX показывает неравномерность распределения основных элементов (цв. илл. XIX, 1 ).
Обкладка «шкатулки» , также украшенная чешуйчатым декором, изготовлена в сходной технике – тиснением с помощью специального фигурного чекана на фольге, полученной с помощью ковки. Прослеживается определенное сходство между обкладкой ножен ножа и обкладкой шкатулки как в использовании фольги в качестве обкладки, так и в использовании сходного типа фигурного чекана. Химический состав металла обкладки шкатулки (табл. 1; пробы № 193, 195, 205, 208): Cu – 1,32–2,68%, Ag – 30,11–64,98%, Au – 32,34–68,57%. Сканирование (EDX) также показало неравномерность распределения золота и серебра по поверхности (цв. илл. XIX, 2 ).
Один фрагмент обкладки с чешуйчатым орнаментом от неопределимого предмета изготовлен аналогичным способом, химический состав его также демонстрирует использование сплава тройной системы Au-Ag-Cu: проба № 200 – Cu – 1,49%, Ag – 29,15%, Au – 69,36% (табл. 1).
В коллекции присутствуют также отдельные пластины, представляющие собой обкладки неидентифицированных предметов. Обкладка прямоугольной формы 7 изготовлена резкой из тонкой кованой золотой пластины; отверстия пробиты на готовом изделии с помощью пробоя (цв. илл. XX, 1 ). По своему составу золото (табл. 1; проба № 201), из которого была изготовлена эта обкладка, относится к высокопробному (850-я проба).
Еще одна обкладка со сгибами 8 , прочерченными чеканом по кованой золотой пластине, сохранившаяся фрагментарно, изготовлена из тройного сплава пониженной каратности с содержанием золота в пределах 60,83 %, серебра 37,8 % (табл. 1; проба № 214) (цв. илл. XX, 2 ).
Бляшки зигзагообразной формы с тисненым рубчатым декором вырезаны из кованой золотой пластины; орнамент выполнен тиснением на матрице. Фиксируются следы смещения листового металла в процессе тиснения, складки металла в негативах изображения, участки рубки листа по тисненому орнаменту (?).
Анализ химического состава металла показал следующие результаты: тройной сплав, из которого изготовлены бляшки, имеет значительный разброс в содержании золота (от 28,28 до 87,59%) и серебра (от 10,08 до 69%) (табл. 1; пробы № 194, 198, 202, 203, 209, 210, 211). Эти бляшки группируются в районе груди и головы погребенной. Они также обнаружены у правой руки, что, вероятно, отражает интенсивность тафономических процессов.
Бляшки, найденные в районе правой руки, изготовлены из сплавов тройной системы (Au-Ag-Cu) с содержанием золота 28,28–68,81 %, серебра 29,3–69 %, меди 1,29–2,72% (пробы № 194, 209).
Бляшки, найденные в районе груди, имеют меньший диапазон разброса значений концентраций золота (67,27–87,59 %), серебра (10,08–34,47 %), меди (0,77–2,33%) (пробы № 202, 210, 211).
Бляшка, найденная в районе головы, изготовлена из сплава с повышенным содержанием серебра (проба № 198).
Принимая во внимание результаты исследования, проведенного для чешуйчатых обкладок ножен и шкатулки, нельзя однозначно говорить о том, что для изготовления этого типа бляшек было использовано золото разной пробы, однако и исключить этого мы не можем, несмотря на то что техника их изготовления идентична.
Бляшки треугольные с тисненым рубчатым декором изготовлены резанием по шаблону кованой золотой пластины; орнамент тиснен на матрице, отверстия пробиты. Бляшки этого типа были зафиксированы, прежде всего, в районе груди погребенной, и два экземпляра были найдены в районе головы. Они изготовлены из сплава тройной системы с содержанием золота в пределах 63,49–79,23 %, серебра – 20,19–35,27 %, меди – 0,58–1,37 % (табл. 1; пробы № 204, 213, 215, 216). Несмотря на фиксируемый разброс значений 9 , можно с большой долей уверенности утверждать, что при изготовлении бляшек этого типа могло быть использовано золото 600–700-й пробы; судя по результатам визуального обследования и промерам по контрольным точкам, бляшки оттискивались с использованием одной матрицы.
Бляшки округлой формы с тисненым рубчатым декором изготовлены по аналогичной схеме; из серии бляшек этого типа было проанализировано два предмета (табл. 1; пробы № 196, 197) – анализы показали, что по крайней мере две бляшки были вырезаны из листового золота 650-й пробы. На некоторых украшениях визуально хорошо фиксируется более светлый (желтый) цвет оборотной стороны, особенно в негативе тисненого изображения, тогда как лицевая сторона бляшек покрыта темной патиной (оксид серебра?) (цв. илл. XX, 3 ).
Бляшки треугольные неорнаментированные с пробитыми по краям отверстиями найдены в районе ног погребенной. По своему химическому составу эти бляшки сопоставимы друг с другом, они вырезаны из листового золота 600–650-й пробы (табл. 1; пробы № 199, 206); предположительно изготовлены они могли быть одномоментно, из одного листа.
Для сравнения различных категорий находок из золота была составлена таблица по пробности золота, с искусственно определенными границами с шагом в 10% (табл. 2, дается усредненное значение).
Таблица 2. Содержание золота в металле находок погребения
|
Категория находок |
Au > 80 % |
Au > 70 % |
Au > 60 % |
Au < 50 % |
|
Обкладка шкатулки |
2 |
|||
|
Обкладка ножа |
1 |
1 |
3 |
|
|
Обкладка |
1 |
2 |
1 |
|
|
Бляшка округлая |
2 |
|||
|
Бляшка зигзагообразная |
1 |
4 |
2 |
|
|
Бляшка треугольная |
2 |
2 |
||
|
Нашивка треугольная |
2 |
Исходя из полученных данных, можно говорить, что из погребения № 1 с поселения Мухино-2 происходят находки обкладки ножен ножа с чешуйчатым декором, изготовленные из золота 700–600-й пробы 10 ; фрагменты обкладки с чешуйчатым декором шкатулки, для которых тоже было использовано золото 600–650-й пробы. Для изготовления прямоугольной обкладки (цв. илл. XX, 1 ) было использовано золото 850-й пробы; для обкладки со сгибами, прочерченными чеканом (цв. илл. XX, 2 ), судя по результатам анализа, применялось золото 600-й пробы. Из золота 650-й пробы сделаны бляшки зигзагообразной формы с тисненым рубчатым орнаментом, найденные в районе груди погребенной; бляшки этого же типа, обнаруженные у руки, изготовлены из сплава с повышенным содержанием серебра. Неоднородны по своему составу оказались и треугольные бляшки с тисненым рубчатым орнаментом – они изготовлены из золота 600–700-й пробы. Из 16-каратного золота были сделаны треугольные бляшки, украшавшие, видимо, обувь.
Несмотря на зафиксированный разброс значений в концентрациях основных элементов и присутствие в выборке сплавов с превалирующим содержанием серебра, выборка из мухинского погребения представляет собой достаточно монолитную группу сплавов 600-700-й пробы золота; среднее значение содержания серебра в сплавах этой пробы варьирует в пределах 30–40 %. Определенный разброс содержания серебра (4–20 %) характеризует золотые сплавы IV – V вв. н. э., циркулировавшие в Крыму ( La Niece, Cowell , 2008. Р. 154. Tab. 1, 1–4 ).
Другую картину дают нам материалы синхронного времени одной из византийских провинций – Карпатской котловины: здесь империей была обеспечена циркуляция рафинированного золота 900–950-й пробы ( Craddock et al ., 2010. Р. 56. Tab. 1). В то же время исследователи считают, что для эпохи Великого переселения народов стандартным было содержание золота в пределах 45–75%, а количество дополнительно введенного в золото серебра или меди зависело от региона, доступности металла и, не в последнюю очередь, от честности мастера ( Ениосова и др. , 2008б. С. 153).
Несомненно, для Верхнего Дона в гуннскую эпоху такие предметы, как нож с ножнами в золотой обкладке, «шкатулка», украшенная золотой орнаментиро- ванной обкладкой, элементы декорирования одежды золотыми бляшками, представляли собой статусные предметы. Техника их изготовления стандартна, хотя и имеет определенные дефекты, связанные, в частности, с тиснением чешуйчатого декора. Как правило, золото пониженной каратности отличается трудностью в обработке давлением, имеет наименьший процент пластической деформации, что ухудшает качество тиснения (тип III, по: Rapson, 1990. Р. 127–128); однако в исследованном золоте невелико содержание меди, что делает его достаточно пластичным (Бреполь, 1982. С. 50, 51).
Реальное же качество изготовления исследованных предметов невысоко, здесь отсутствуют сложные технические схемы, и, в сравнении с другими известными статусными предметами этого хронологического периода, изученные золотые украшения из мухинского погребения не могут претендовать на включение их в круг высококачественных изделий «золотых дел мастеров».
Представляется, что в свете вышеизложенного нельзя исключить нахождение в погребении № 1 с поселения Мухино-2 предметов-копий, выполненных местными мастерами либо привезенных из «метрополии» и изготовленных специально для сбыта в мире «варваров». Продолжение изучения материалов из этого погребения, памятников синхронного времени позволит получить качественно новую информацию, необходимую для решения конкретных исторических проблем.
Список литературы Техника изготовления и химический состав золотых изделий из погребения № 1 на поселении Мухино2 в контексте определения «маркеров статусности»
- Бреполь Э., 1982. Теория и практика ювелирного дела/Под ред. Л.А. Гутова, Г.Т. Оболдуева. Л.: Машиностроение. 379 с.
- Земцов Г.Л., 2003. Миграционные потоки III-V вв. н. э. и Верхнедонской регион (на примере поселения Мухино 2)//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох/Отв. ред. Д.А. Сташенков. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина. С. 108-116.
- Земцов Г.Л., 2004. Отчет о проведении археологических работ в Задонском районе Липецкой области экспедицией Липецкого государственного педагогического университета в 2002 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 28007.
- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г., 2008а. Методы исследования химического состава цветных металлов//Цветные и драгоценные металла и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Ред. А.А. Коновалов, Н.В. Ениосова, Р.А. Митоян, Т.Г. Сарачева; Исторический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М: Восточная литература РАН. С. 113-120.
- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г., 2008б. Химический состав ювелирного сырья эпохи средневековья и пути его поступления на территорию Древней Руси//Цветные и драгоценные металла и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Ред. А.А. Коновалов, Н.В. Ениосова, Р.А. Митоян, Т.Г. Сарачева; Исторический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Восточная литература РАН. С. 107-162.
- Мастыкова А.В., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Земцов Г.Л., 2013. Привилегированное женское погребение Мухино эпохи Великого переселения народов на Верхнем Дону: данные антропологии//Человек в окружающей среде: этапы взаимодействия. /Отв. ред. А.П. Бужилова, М.В. Добровольская, М.Б. Медникова. М.: ИА РАН. М. С. 60.
- Мастыкова А.В., Земцов Г.Л., 2014. «Княжеское» женское погребение на поселении Мухино-2 гуннского времени на Верхнем Дону//КСИА. Вып. 234. См. в настоящем выпуске.
- Перницка Э., 2013. Распространение металлургии в Старом Свете//Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое -первое тысячелетие до н. э.: каталог выставки/Коллектив авторов; Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственные музеи Берлина, Прусское культурное наследие; под ред. Ю.Ю. Пиотровского. СПб.: Чистый лист. С. 66-78.
- Centeno S.A., Schorch D., 2000. The Characterisation of Gold Layer on Copper Artifacts from Piura Valley (Peru) in the Early Intermediate Period//Gilded Metals. History, Technology and Conservation/Ed. by T. Drayman-Weisser. Archetype Publications Ltd. London. P. 223-240.
- Corti C.W., 2001. Assaying of gold jewellery -choice of technique//Santa Fe Symposium, USA: http://coralsas.eu/DocSpecial/Assay/GT_32_%20Assaying_Au_Jwl_Corti.pdf.
- Craddock P., Cowell M., Duncan H., Hughes M., La Niece S., Meeks N., 2010. Change and stasis: the technology of Dark Age metalwork from the Carpathian Basin//The British Museum: Technical Research Bulletin/Ed. by D. Saunders. Vol. 4. Archetype Publications. P. 55-66.
- Dowben P.A., Miller A.H., Vook R.W., 1987. Surface Segregation from Gold Alloys//Gold Bulletin. 20 (3). P. 54-65.
- Hultquist G., 1985. Surface Enrichment of Low Gold Alloys//Gold Bulletin. Vol. 18 (2). P. 53-57.
- La Niece S., Cowell M., 2008. Crimean Metalwork: Analysis and Technical Examination//The Berthier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery in the British Museum and the Related Material (British Museum Research Publication 166)/Eds D. Kidd, B. Ager. The British Museum Press. Р. 151-160.
- Pollard M., Batt C., Stern B., Young S.M.M., 2011. Analytical Chemistry in Archaeology/Cambridge Manuals in Arcaheology. Cambridge University Press. 390 р.
- Rapson W.S., 1990. The Metallurgy of the Coloured Carat Gold Alloy//Gold Bulletin. Vol. 23 (4). P. 125-133.
- Saprykina A., Teterin Yu., Mitoyan R., 2009. Gold foil covering of a handle of an iron knife from burial 2 of the Hunnic Period cemetery at Mukhino, in the Upper Don area//ArcheoSciences. Vol. 7 (39). Rennes. P. 255-257.
- Wanhill R.J., 2003. Brittle Archaeological Silver: a Fracture Mechanisms and Mechanics Assessment//Archaeometry. Vol. 45 (4). P. 625-636.