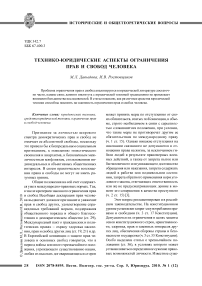Технико-юридические аспекты ограничения прав и свобод человека
Автор: Давыдова Марина Леонидовна, Ростовщиков Игорь Викторович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Исторические и общетеоретические вопросы
Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Проблема ограничения прав и свобод анализируется в юридической литературе достаточ- но часто, однако связь данного института с юридической техникой традиционно не привлекает внимания большинства исследователей. В статье показано, как различные средства юридической техники способны повлиять на законность ограничения прав и свобод человека.
Юридическая техника, средства юридической техники, ограничение прав и свобод человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14972687
IDR: 14972687 | УДК: 342.7
Текст научной статьи Технико-юридические аспекты ограничения прав и свобод человека
Признание за личностью широкого спектра демократических прав и свобод не означает ее абсолютной свободы, поскольку это привело бы к беспредельным социальным притязаниям, к появлению эгоистического своеволия и анархизма, к бесконечным межличностным конфликтам, столкновениям индивидуальных и объективных общественных интересов. В своем практическом воплощении права и свободы не могут не иметь разумных границ.
Общие положения на сей счет содержатся уже в международно-правовых нормах. Так, в числе критериев законного ограничения прав и свобод Всеобщая декларация прав человека выдвигает должное признание и уважение прав и свобод других, удовлетворение справедливых требований морали, поддержания общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (ст. 29), Международный пакт о гражданских и политических правах – охрану здоровья населения, прав и свобод других лиц (ст. 19, 21) и др. В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод говорится, что в период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации, любая из высоких договаривающихся сторон может принять меры по отступлению от своих обязательств, взятых по Конвенции, в объеме, строго необходимом в связи с серьезностью сложившегося положения, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву (ч. 1 ст. 15). Однако никакие отступления на основании сказанного не допускаются в отношении права на жизнь, за исключением гибели людей в результате правомерных военных действий, а также от запрета пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, запрета содержать людей в рабстве или подневольном состоянии, запрета обратного применения норм уголовного закона, отягчающих ответственность или же не предусматривающих деяние в момент его совершения в качестве преступного (ч. 2 ст. 15) [3].
Этот вопрос регламентирован и в российском законодательстве. На конституционном уровне установлен запрет злоупотребления правами и свободами (ч. 3 ст. 17 Конституции). Допускаются их ограничения в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции). Особо выделена статья о чрезвычайном положении (ст. 56), в условиях которого может устанавливаться определенное сужение правовых возможностей личности. Известное суже- ние прав и свобод наблюдается на основании применения к правонарушителям мер юридической ответственности, особенно уголовной, в виде лишения свободы и др. Вместе с тем в отношении целого ряда прав и свобод по закону вообще исключены какие-либо умаления (свобода от пыток, право на защиту через правосудие и др.). Законные же ограничения имеют четкие пределы, не допускающие унижения, властного произвола, причинения человеку неоправданных страданий и лишений.
В реальной жизни проблема ограничения прав и свобод человека чрезвычайно сложна и не может быть сведена к каким-либо отдельным аспектам. Имеет смысл говорить об ограничениях законных и незаконных, легитимных и нелегитимных, целесообразных и нецелесообразных и т. п. Каждая классификация предполагает выход на целый комплекс проблем, в контексте которых технико-юридическая сторона вопроса представляется далеко не самой значимой. Тем не менее в ряду задач, требующих своего решения в рассматриваемой сфере, совершенствование технико-юридической составляющей также занимает свое место.
Если исходить из принятого большинством специалистов мнения о том, что юридическая техника политически, идеологически и аксиологически нейтральна, можно предположить, что средства ее могут использоваться как для обеспечения законности, разумности, справедливости ограничения прав и свобод, так и для манипулирования волей и интересами субъектов, маскировки истинных целей законодателя или правоприменителя.
Здесь, говоря о роли юридической техники, следует различать два момента:
-
1) Правомерность ограничений, то есть их обоснованность, целесообразность, правильность с точки зрения соблюдения основных прав человека, обеспечения эффективности механизма правового регулирования и т. д. К сожалению, в этой сфере юридическая техника бессильна, так как даже квалифицированное использование технико-юридического инструментария не гарантирует качества правового регулирования и даже, наоборот, средства юридической техники могут быть использованы с различными, порой прямо противоположными целями 1.
-
2) Законность ограничений, то есть соответствие их материально-правовым нормам, соблюдение установленных процедур и т. д. Говоря о роли юридической техники в установлении ограничений прав и свобод, мы подразумеваем, что использование техникоюридических средств позволяет обеспечить законность этих ограничений (опосредованно при этом влияя на их легитимность).
Исходя из деления ограничений прав и свобод человека на нормативные и правоприменительные , можно говорить о специфической роли как правотворческой, так и правоприменительной техники. На каждом уровне реализуется целая система технико-юридических средств, обеспечивающих рационализацию и эффективность юридической деятельности.
Как представляется, наиболее значимые общие средства юридической техники могут быть объединены в три группы:
-
- общесоциальные (по природе своей не имеют юридической специфики, однако незаменимы в качестве идеальной и материальной основы деятельности юриста);
-
- доктринальные (разрабатываются правовой теорией, существуют в идеальном виде как часть профессионального правосознания, выступают теоретической основой профессиональной юридической деятельности);
-
- нормативные (получают нормативное закрепление и функционируют в правотворческой, правореализационной и иных сферах юридической деятельности в качестве самостоятельных средств правового регулирования).
Роль каждого из рассматриваемых правовых явлений может быть интерпретирована по-разному, в зависимости от того, на каком этапе создания и функционирования права мы их рассматриваем. Однако существование и развитие как права в целом, так и отдельных его институтов (в том числе института ограничений прав и свобод человека) без использования этих средств были бы невозможны. Поэтому уместным представляется краткий анализ того механизма, в рамках которого реализуется данная система техникоюридических средств.
Первый уровень. «Материал», из которого создается право. Основным сред- ством создания права является язык и составляющие его компоненты: слово, предложение, текст. «Язык является единственным строительным материалом, из которого создается правовая материя» [9], причем словесная форма присуща далеко не только закону, а практически всем проявлениям права [8]. Язык не только создает право, но и обеспечивает его действие, восприятие его общественным и индивидуальным сознанием. В ряду общесоциальных средств юридической техники язык поэтому, безусловно, занимает главенствующее положение.
Наряду с языковыми, словесными средствами юридической техники существуют и невербальные средства . К этой весьма специфической группе относятся, в частности, символы , которые, являясь важной частью человеческой культуры, активно используются в процессе создания и функционирования права. Однако все иные (кроме языка) общесоциальные средства вторичны, так как ни одно из них не имеет такого всеохватывающего значения, не играет настолько определяющей роли, как язык.
Второй уровень. Средства структурирования правовой информации. Основным средством теоретической, языковой и логической обработки фактического правового материала является юридическая конструкция. С ее помощью познаются различные правовые явления, создаются идеальные модели, отражающие их структуру и внутренние связи. В качестве вспомогательного приема на этом этапе используется классификация (хотя и саму классификацию под определенным углом зрения можно рассматривать как разновидность юридической конструкции). С помощью классификации происходит дифференциация правовых явлений, конструкция же вычленяет наиболее устойчивые, значимые из них, моделируя их внутреннее строение. Два названных технико-юридических инструмента позволяют создать определенную теоретическую схему, форму, выступающую неким аналогом правовой реальности, – форму, которая может быть наполнена тем или иным юридическим содержанием. Именно на основе таких теоретических схем формируется логическая структура будущих правовых норм, моделируют- ся презумпции, фикции и т. д., разрабатываются формулировки правовых дефиниций, то есть создается теоретическая база нормативного регулирования. Сама правовая норма в единстве трех своих элементов (гипотезы, диспозиции и санкции) может также рассматриваться в качестве своеобразной юридической конструкции, но уже наполненной конкретным регулятивным содержанием.
Юридическая конструкция используется далеко не только в процессе правотворчества, но и как средство договорной, интерпретационной, правоприменительной техники, что дает основания рассматривать ее как общее технико-юридическое средство.
Третий уровень. Средства установления общеобязательных правил . Этап формулирования нормативно-правового предписания предполагает изложение должным образом структурированной правовой информации в виде конкретных правовых велений, имеющих, как правило, текстуальную форму. С помощью нормативных предписаний, таким образом, теоретические модели (конструкции) воплощаются в правовом тексте.
Разброс средств, задействованных на этом этапе, достаточно широк. Во-первых, это сами правовые предписания во всех их разновидностях (основные и вспомогательные, типичные и нетипичные и т. п.). Во-вторых, это средства, используемые при их формулировании (термины, оговорки, отсылки). В-третьих, приемы структурирования правового текста, позволяющие обеспечить логическую последовательность, связность правовых велений (преамбула, основная часть, приложения, примечания, сноски и др.).
Все эти приемы и средства относятся, в первую очередь, к правотворческой технике, хотя могут и должны распространяться на все виды письменной, документационной деятельности. Нормативно-правовое предписание в отличие от них сохраняет свое значение как общее технико-юридическое средство. Это связано с тем, что, являясь мельчайшей частицей позитивного права, предписание олицетворяет собой нормативный уровень права, в значительной мере определяющий все остальные аспекты его существования. Кроме того, именно в форме нормативных предписаний существуют многие правовые явления, тра- диционно рассматривающиеся в качестве средств и приемов юридической техники: правовые презумпции, аксиомы, фикции и т. п. Они выступают не только особыми способами формулирования и нормативного закрепления воли законодателя, но и специфическими приемами правового регулирования, проявляющими себя на различных уровнях действия права.
Специфика средств юридической техники (по крайней мере в континентальной правовой семье) заключается в том, что те из них, которые применяются на нормативном уровне функционирования права, одновременно являются и общими технико-юридическими средствами, так как «задают тон» всему процессу правового регулирования.
Таким образом, каждый из названных уровней средств юридической техники (общесоциальный, доктринальный и нормативный) выполняет свои функции в обеспечении эффективности правового регулирования, в том числе в сфере ограничения прав и свобод.
Если обратиться к общесоциальному уровню, представленному, в первую очередь, языковыми средствами юридической техники, то следует признать, что в контексте проблемы ограничения прав и свобод человека целесообразнее, вероятно, говорить не о сущностных аспектах языка права (язык выступает не только в качестве формы выражения , но и в качестве единственной формы существования права), а о прикладной стороне вопроса – об особенностях законодательных формулировок, использовании специальных терминов, структур предложения, позволяющих точнее выразить суть правового веления. Доктринальные средства, включающие в себя главным образом юридические конструкции, играют наиболее значительную роль в создании «идеальной материи права». Именно на доктринальном уровне рождаются, выкристаллизовываются схемы, структуры, модели разнообразных правовых установлений, в том числе прав и свобод человека, и их юридических ограничений. Нормативные средства формируются в результате обретения идеальной конструкцией конкретной языковой формы. Доктринально разработанные схемы воплощаются при этом в одном или нескольких нормативно-правовых предписаниях.
Именно на этом этапе наиболее наглядно проявляется значение юридической техники как инструмента ограничения прав и свобод. Значение это может быть различным и зависит от того, какой тип нормативно-правовых предписаний используется законодателем для их установления и обеспечения:
-
1) Среди средств, обеспечивающих легитимность правовых ограничений, важное место занимают нормативно-правовые декларации – предписания, не выполняющие собственно регулятивных функций, излагающие мотивы, конечные цели правового регулирования. Характерна в этом плане принятая в 1991 г. российская Декларация прав и свобод человека и гражданина [1], которая с незначительными изменениями была инкорпорирована в обновленный текст действовавшей тогда Конституции РСФСР 1978 года [2].
Нередко декларации констатируют права и свободы, например, ссылаясь на соответствующие положения Конституции РФ или воспроизводя мотивы, побудившие к принятию соответствующего закона. Например: « Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации » [4]; « Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду » [5]; « Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и предусматривает в этой части реализацию конституционного права субъектов РФ на совместное с РФ ведение вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности » [7]. Упоминание конкретных ограничений для декларативных предписаний не характерно, так как ограничения являются чаще всего исключениями из общего порядка.
В то же время положения преамбулы, предписания-задачи, цели служат первичным, наиболее общим обоснованием концепции нормативно-правового акта, в том числе и обоснованием закрепленных в нем ограничений прав и свобод. Ограничения в этом смысле хоть и являются исключением из общего правила, но служат необходимым элементом в механизме реализации общих целей нормативного акта, его концепции. Объясняя мотивы законодателя, обосновывая значимость данного правового акта, декларации, возможно, в большей мере должны быть ориентированы не столько на констатацию прав и свобод (их наличие и так будет воспринято субъектом позитивно и потому не нуждается в дополнительных аргументах), сколько на обоснование целесообразности и неизбежности ограничений этих прав и свобод. Например: « В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам национальной политики препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, иные нарушения законодательства РФ о языках народов РФ » [6].
Таким образом, благодаря правовым декларациям ограничения прав и свобод человека приобретают дополнительное обоснование. Оно не является обязательным и используется законодателем далеко не всегда. Но в наиболее сложных ситуациях, когда нет гарантии, что субъект позитивно воспримет установленные законом ограничения его прав, такие средства могут и должны использоваться.
-
2) Целый ряд технико-юридических средств направлен на обеспечение качества нормативно-правового акта , опосредованно влияя при этом на качество устанавливаемых им правовых ограничений. К примеру, роль нормативно-правовых дефиниций в технико-юридическом обеспечении механизма ограничения прав и свобод не является особо значительной. В целом ее можно, вероятно, свести к обеспечению ясности, понятности, непротиворечивости нормативного текста, являющихся дополнительными условиями легальности и легитимности правовых ограничений. Аналогичную роль играют, по нашему мнению, нормативно-правовые
предписания, образующие системосохраняющий механизм права – коллизионные, оперативные предписания, устанавливающие аналогию, и др. Не закрепляя непосредственно никаких ограничений, они обеспечивают общий уровень качества правового текста, от которого, в том числе, зависит возможность полноценной реализации отдельных правовых институтов.
-
3) Основную роль в рассматриваемой сфере играют многочисленные средства, обеспечивающие законность ограничений прав и свобод человека. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить правовые принципы и предписания, выражающие нормы права во всех их разновидностях (регулятивные и охранительные, предписания-презумпции и фикции и т. п.).
Нормативно-правовые принципы – предписания, выражающие основные идеи, суть правового регулирования соответствующих отношений. Их роль в сфере ограничения прав и свобод может быть как положительной, так и негативной, в зависимости от того, каковы истинные цели, преследуемые законодателем.
В первом случае нормативно-правовой акт должен содержать четкую систему принципов, достаточно полно и исчерпывающе характеризующих его концепцию. Наглядной иллюстрацией здесь может служить положение Конституции Российской Федерации о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2). Соответственно любые ограничения прав человека, устанавливаемые тем или иным законом, должны укладываться в рамки вышеназванного принципа. Нормативно-правовые принципы выступают здесь важным средством обеспечения законности и легитимности не только нормативных, но и правоприменительных ограничений прав и свобод человека.
Отсутствие в законе четко сформулированных принципов может свидетельствовать либо об отсутствии единой концепции нормативного акта (а следовательно, его внутренне противоречивом, несогласованном характере), либо о нежелании законодателя открыто демонстрировать эту концепцию, его стремлении замаскировать те или иные цели правового акта, не акцентировать внимание на средствах их достижения. В обоих случаях ограничения прав, устанавливаемые данным законом, с большей долей вероятности могут носить произвольный, необоснованный характер.
Возможны также ситуации, когда ограничения прав устанавливаются самими принципами. Содержание принципа при этом раскрывается в отдельной статье нормативного акта. Такие ограничения:
-
а) наиболее существенны (так как предполагают исключения из принципиального общего порядка, из наиболее важных прав);
-
б) как правило, обеспечиваются значительными правовыми гарантиями;
-
в) по структуре и форме изложения закрепляющего их предписания напоминают обычные регулятивные правовые веления.
Механизм действия нормативно-правового принципа в этом случае выглядит следующим образом. Принцип представляет собой основополагающее правило, общую идею, выражающую суть правового регулирования определенной сферы общественных отношений, однако действие этого принципа предполагает исключения. Эти исключения или ограничения допустимы только в строго оговоренных законом случаях и пределах, однако само их наличие не свидетельствует об ущербности принципа права, а заложено, вероятно, в его природе. Сказанное относится как к конституционным положениям («Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения»; «Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц» и т. п.), так и к принципам, закрепленным в отраслевых кодексах («Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством»; «Разбирательство дел во всех судах открытое. Разбирательство в закрытых судебных заседани- ях осуществляется по делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну…, а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом»). Абсолютные, не допускающие ограничений принципы в законодательстве есть (например, принцип вины в уголовном праве, принцип независимости судей в процессуальных отраслях и т. д.), но количество их отнюдь не является преобладающим.
Разумеется, роль правовых принципов не сводится к случаям применения аналогии права или к возможности их прямого действия. Гораздо более значимым является идейное содержание права, выражаемое принципом и пронизывающее действующие правовые нормы. Однако не следует игнорировать и собственное регулятивное значение нормативноправового принципа, которое состоит в том, что во всех случаях противоречий, пробелов, неясностей в законодательстве, недостатка нормативной либо фактической информации ориентиром при выборе обоснованного решения является правило, устанавливаемое этим принципом. В определенной мере подобный механизм действия сближает принципы права с такими специфическими средствами юридической техники, как правовые презумпции.
Нормативно-правовые презумпции и фикции по природе своей являются средствами ограничения прав. Априорно разрешая типичную ситуацию неопределенности, они устанавливают правило, заведомо основанное на предположении. Это предположение может быть опровергнуто (в случае действия презумпции) либо являться неопровержимым (фикция). Но сам факт игнорирования в той или иной ситуации истинных фактических обстоятельств свидетельствует о возможном ограничении прав заинтересованной стороны. Подобные ограничения применяются как при отсутствии какой-либо вины сторон правоотношения, например в случае признания лица умершим, так и при наличии тех или иных нарушений (процессуальные санкции, например в случае неявки стороны, отказа в предоставлении доказательств и т. п.).
Нормативно-правовые предписания, выражающие правовые нормы, предназначены непосредственно для регулирования и охраны общественных отношений, в том чис- ле путем установления тех или иных правовых ограничений. Такие предписания при этом могут либо устанавливать ограничение в форме оговорки к основному правилу, либо закреплять самостоятельное ограничение в виде отдельного предписания-предложения. В зависимости от видовой принадлежности предписания (регулятивное или охранительное, материальное или процессуальное), а также его внутренней структуры (закрепление ограничения в гипотезе или в диспозиции (санкции) правового веления) законодатель определяет степень подробности правовой регламентации устанавливаемых ограничений, закрепляет порядок и средства их реализации, гарантии защиты прав и свобод человека от неправомерных ограничений. Безусловно, чем более подробно регламентированы процедурные и иные аспекты ограничения прав, тем меньше остается возможности для произвольных, не основанных на законе действий, для нарушения прав и свобод человека. Уровень нормативной регламентации правовых ограничений обусловливает, таким образом, гарантии законности и легитимности правоприменительной деятельности в рассматриваемой сфере.
Правоприменительные ограничения прав и свобод, устанавливаемые индивидуальноправовыми актами, заслуживают отдельного рассмотрения. На этом уровне используются как общие, так и специфические технико-юридические средства, которые условно можно объединить в три группы:
-
1) Общие средства юридической техники. От их качества зависит и качество правоприменения, следовательно, их действие продолжается на данном уровне существования права.
-
2) Индивидуальные правовые предписания – веления, составляющие содержание правоприменительного акта. Их качество обеспечивается, с одной стороны, соблюдением требований письменной документационной юридической техники: языковых, логических, формальных, реквизитных и иных правил. С другой стороны (и это, наверное, главное), эффективность этих средств юридической техники зависит от полноты анализа фактических обстоятельств, правильности квалификации дела, обоснованности правоприменительного
решения, учета всех юридически значимых обстоятельств. Обе стороны вопроса напрямую связаны с технико-юридической проблематикой, то есть непосредственно зависят от профессионализма правоприменителя.
В процессе реализации прав и свобод личности теми или иными государственными органами, иными компетентными субъектами издаются различные правоприменительные акты. Ряд из них правомерно ограничивает реализацию прав и свобод. Характерны здесь правоприменительные акты о виновности лица и одновременном назначении ему необходимого наказания. Они чаще всего встречаются при осуществлении правосудия по уголовным делам (приговор о лишении свободы и др.), введении в действие мер административного взыскания (штраф, конфискация или изъятие предмета, явившегося орудием совершения административного правонарушения, и др.). Реализацию прав и свобод могут ограничивать пресекающие правоприменительные акты (решение о задержании подозреваемого, о взятии под стражу и т. д.).
В плане ограничения прав и свобод личности можно рассматривать отдельные запрещающие правоприменительные акты. Такие акты выносятся при отсутствии противоправного поведения тогда, когда дальнейшая реализация личностью своего права без определенной коррекции влечет ясно прогнозируемый вред, представляет опасность для нее, других граждан, общественных интересов. Примеры из жизни здесь самые разнообразные: запрет местными властями пользоваться водоемом в период эпидемии, продавать продовольственный товар до устранения возникших сомнений в его качестве, запретительные указания водителям и пешеходам со стороны регулировщика дорожного движения, снятие милицией с учета охотничьего оружия ввиду его непригодности к использованию и др.
-
3) Процедурные средства . Основная часть правовых процедур закрепляется процессуальными нормативными предписаниями и, следовательно, относится к общим средствам юридической техники. Однако на стадии правоприменения особое значение приобретает практический аспект профессиональной деятельности – правильность соблюдения
ИСТОРИЧЕСКИЕ процедурных правил, умение эффективно, экономично, целесообразно осуществлять те или иные действия, соблюдение неписанных правил, деловых обыкновений, существующих в любой профессиональной среде, в том числе и в сфере правоприменения. Все это способно обеспечить законность, минимизировать ограничения прав человека, гарантировать их справедливость и неизбыточность, либо, наоборот, свести на нет все нормативные, законодательные гарантии.
Это особенно важно тогда, когда для использования отдельных прав человека установлена процессуально-процедурная форма, то есть когда закон с той или иной степенью определенности предусматривает регламент их использования. Процессуально-процедурный порядок представляет из себя собственно юридическую конструкцию реализации прав. Он обычно предполагает согласованность активных действий правообладателя и обязанных субъектов, четкую нормативную обозначенность этих действий по форме, методам, средствам, времени, месту осуществления и т. д. Согласованность задана, прежде всего, через систему юридических фактов, юридических (фактических) составов, которые вызывают указанные действия, а также сами ими порождаются. Одновременно могут регламентироваться и организационные мероприятия (уведомить лицо о решении, выдать документ и др.). К примеру, трудовое правоотношение возникает на основании юридического состава, в который, помимо достижения гражданином установленного законом возраста, получения им профессиональной подготовки, наличия вакансии и др., обычно входят: его официальное письменное волеизъявление, заключение трудового соглашения, приказ руководителя о назначении на должность. В конечном счете важно, чтобы процессуально-процедурная форма искусственно не ограничивала реализацию прав человека, не была препятствием реализации.
В огромной мере качество правотворчества и тем более правоприменения зависит от человеческого, субъективного фактора, и если прямой умысел на незаконные ограничения прав и свобод средствами юридической техники предотвратить невозмож-
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ но, то сократить количество правотворческих и правоприменительных ошибок путем повышения квалификации законодателя или правоприменителя, совершенствования их профессионализма – это как раз задача юридической техники. Именно в этом, в частности, видится ее роль в сфере ограничения прав и свобод человека.
Список литературы Технико-юридические аспекты ограничения прав и свобод человека
- ПРИМЕЧАНИЯ
- Именно поэтому чрезвычайно сомнитель-на целесообразность использования формализован-ных методов изучения правовых ограничений, на-пример, выявления количественных критериев их достаточности. Оправданность или неоправданность ограничений в каждой конкретной ситуации зависит от множества факторов, охватить которые количественными показателями невозможно, а главное, бесполезно с познавательной точки зрения.
- Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. -1991. -№ 52. -Ст. 1865.
- Конституция РФ: [принята всенародным голосованием 12.12 1993 г.]//Собрание законодательства РФ. -2009. -№ 4. -Ст. 445.
- Международные акты о правах человека: сб. док. -2-е изд., доп. -М.: НОРМА-ИНФРА, 2002. -784 с.
- О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании»: фе-дер. закон от 13 янв. 1996 г. № 12-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. -15 янв. (№ 3). -Ст. 150.
- О санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения: федер. закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. -1999. -5 апр. (№ 14). -Ст. 1650.
- О языках народов Российской Федерации: закон РФ от 25 окт. 1991 г. № 1807-I//Ведомости Съез-да народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. -1991. -12 дек. (№ 50). -Ст. 1740.
- Об экологической экспертизе: федер. закон от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. -1995. -27 нояб. (№ 48). -Ст. 4556.
- Поротиков, А. И. Обычай в гражданском обороте/А. И. Поротиков//Обычай в праве. -СПб.: Юрид. центр пресс, 2004. -382 с.
- Ушаков, А. А. Право, язык, кибернетика/А. А. Ушаков//Правоведение. -1991. -№ 2.-С. 34.