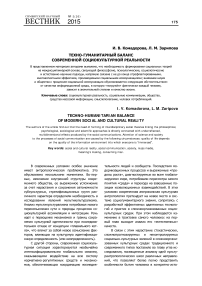Техно-гуманитарный баланс современной социокультурной реальности
Автор: Комадорова Ирина Владимировна, Зарипова Ляйсан Мирзануровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.
Бесплатный доступ
В представленном материале авторами выявлено, что необходимость формирования социальных теорий на междисциплинарной основе, связующей философские, психологические, социологические и естественно-научные подходы, напрямую связана с не до конца отрефлектированными, многоаспектными эффектами, производимыми социальными коммуникациями; внимание науки и общества к процессам социальной коммуникации обусловливается следующим обстоятельством: от качества информационной среды, в которую «погружён» фактически каждый человек, зависит в значительной степени и качество жизни.
Социокультурная реальность, социальные коммуникации, общество, средства массовой информации, смыслополагание, человек потребляющий
Короткий адрес: https://sciup.org/14114084
IDR: 14114084
Текст научной статьи Техно-гуманитарный баланс современной социокультурной реальности
В современных условиях особое значение имеет антропологическая проблематика. Это обусловлено несколькими моментами. Во-первых, изменение внутренней структуры современного общества, ее выраженное усложнение за счет нарастания и сохранения автономности субкультурных, стратификационных групп различного характера определили необходимость в исследовании явлений мультикультурализма. Анализ мультикультурализма потребовал нового переосмысления сути и природы процессов социокультурной ассимиляции и интеграции. Речь идет о переоценке механизмов и границ сохранения культурной идентичности при последовательном отказе от концепции «плавильного котла», что влечет за собой новое осмысление факторов, влияющих на культурную идентификационную определенность (или неопределенность).
С другой стороны, современная социокультурная ситуация характеризуется необычайно интенсифицированными глобальными связями, оказывающими воздействие на всю систему нормативно-регулятивных средств и механизмов, обеспечивающих координацию жизнедея- тельности людей и сообществ. Последствия модернизационных процессов и выраженные «пределы роста», диагностируемые во всем глобализируемом мире, потребовали пересмотра самого понятия «среда» и перехода на взвешенные позиции коэволюционных взаимодействий. В этих условиях современная американская культурная антропология претендует на новое место в системе социогуманитарного знания, сопрягаясь с разработкой эффективных адаптивных технологий и практик в сложноорганизованных социокультурных средах. При этом наблюдается изменение в трактовке самого человека: на первый план выходит анализ его «естественных» качеств.
В связи с этим нарастание стохастических, сложнопрогнозируемых и неконтролируемых социально-культурных явлений в сложноорганизованных культурных средах традиционного и современного типов поставило во главу угла исследования, посвященные анализу идей культу-рантропологических школ различных направлений, что позволяет более полно представить особенности бытия человека в конкретно-исто- рических условиях, отличающихся повышенным разнообразием [6].
Развитие человека связано с изменениями условий его бытия и общества в целом и, соответственно, с изменениями его представлений о смысле всего происходящего. Жажда максимального удовлетворения биологических потребностей человека, стремление к достижению наибольшего наслаждения сегодня есть поведенческий main stream. Предпочтения человека потребляющего побуждают обнаруживать смыслы не столько в продуктах умственной деятельности людей — книгах, фильмах, произведениях различных видов искусства, сколько в ценностях материальной культуры — утвари, автомобилях, драгоценностях и пр. Специфические черты современности — набирающий обороты процесс глобализации, кардинальным образом перекраивающий социальную организацию всего человечества; различные модификации либеральных ценностей; феномен «потребительства», возведённый в культ, — приобретают для российских граждан дополнительную актуальность в связи с невероятным социальным расслоением населения, кризисом идеалов. Автономность человека, заданная Просвещением, достигает своего апогея — автономная культура (созданная автономным же человеком) разрушает саму себя. Потребительская идеология уже привела к тому, что новый массовый человек практически стал «экономическим человеком» уже не только теоретически , но и онтологически . Жизнь, руководимая только логикой рынка, примитивизирует человека , а значит, и общество в целом: потребность в осмысленном характере своего существования, имеющаяся у всех, пусть даже и в неосознанном виде, компенсируется либо стремлением к власти, либо стремлением к удовольствию. Наиболее примитивными формами проявлений этих стремлений являются желание денег и сексуальное удовольствие.
Одной из наиболее характерных черт индустриального общества становится массовая грамотность. Издательская деятельность, подобно всем другим отраслям, вышедшим на уровень промышленного производства, испытывает на себе воздействие закона экономии времени: рынок все активнее заполняется огромными объемами сравнительно недорогой книгопечатной продукции. Усложнение техники и технологии создает все больше стимулов к получению образования и у работников, и у нанимающих их работодателей в полном соответствии с законом перемены труда. Повышение квалифика- ции как условие получения более высокого дохода и социального статуса все сильнее зависит от уровня полученного образования (в том числе и чисто формального). Хотя в реальной практике, во всяком случае, на микроуровне, эта связь проявляется не столь однозначно и прямолинейно. Тем не менее получение начального, а затем и среднего образования всё чаще становится постоянным и необходимым требованием даже для неквалифицированных работников. И в качестве отклика на эту вновь возникшую социальную потребность во всех развитых обществах создаются обширные и разветвленные системы образования — учреждается огромное число школ, колледжей, университетов. Учредителями и основателями их выступают как государство, так и частные лица. По данным Р. Коллинза, в США число выпускников средних школ, приведенное к общей численности населения в возрасте до 17 лет, в период с 1869 по 1963 год возросло в 38 раз, а аналогичное соотношение для выпускников местных колледжей (которые, подобно нашим техникумам, в значительной мере берут на себя функции подготовки технических специалистов среднего уровня) — более чем в 22 раза. Существенно, хотя и не в такой степени, возросло число бакалавров, магистров и докторов наук.
В постиндустриальном обществе проблема массовой грамотности населения возникает вновь, приобретая угрожающие тенденции. Причина в том, что при достижении обществом определённого — достаточно высокого — уровня развития, превышающего индустриальную зрелость, перед ним во весь рост встаёт вопрос об ином качестве этой грамотности, нежели то, которое диктовали требования индустриального общества. В постиндустриальных обществах , или обществах «информационных», всё настойчивее даёт о себе знать проблема функциональной грамотности — массовой грамотности уже на качественно ином уровне.
Важнейшей движущей силой изменения в постиндустриальном обществе выступают автоматизация и компьютеризация производственных процессов и так называемые «высокие технологии». Ядром совершенствования технологии выступает знание. Тоффлер утверждает, что в современном мире «знание — это изменение», т. е. ускоренное получение знаний, питающих развитие технологий, означает ускорение изменений. Положение об ускорении изменений и их социальной и психологической роли служит обоснованием перехода к «супериндустриальному» обществу, где обособилась новая прослойка — нетократы. Сегодня наряду с процессом глобализации набирает силу нетократи-ческая её разновидность: социальный феномен, базирующийся на предоставляемых новыми технологиями возможностях коммуникации и контакта между различными культурами через огромные расстояния. Если великая цель капитализма — повысить прибыли, то великая цель нетократов — улучшать и развивать взаимные коммуникации, включая странные опыты и жизненные стили, которые становятся возможными благодаря новым технологиям. Нетократы стремятся познать всё универсальное на глобальной арене, потому они хотят предложить универсальный язык, с помощью которого смогут испытать всевозможные экзотические ощущения, по которым они тоскуют [1]. Так, к примеру, рождаются благоглупости — блогоглупости.
Соглашение между капитализмом и нето-кратией касается не только различий в происхождении, стиле жизни и отношении к жизни. Смена парадигмы фундаментально изменила образ мира — история утрачивает предопределённость направления развития, утопия исчезает. «Единственно возможный путь развития» — уже не единственный; из любой точки исходит бесконечное число нехоженых дорог. Цельность, рационализм и управляемый коллективизм рассыпаются под давлением многообразия виртуального мира. Волоча за собой консьюме-рат, нетократия занимает место буржуазии. Капитализм делает деньги на любом возможном рынке и превращает любой мыслимый ресурс (информация в этом числе) в товар, это так называемая «аддитивность капитализма» (термин введён Б. Массуми) [2]. «Нетократическая глобализация ведет к появлению глобальной электронной культуры. На практике это выражается в том, что нетократы в каждой стране будут объединяться на базе тесных контактов и общих интересов… Нетократы будут характеризоваться тем, что они манипулируют информацией , а не управляют собственностью или производят товары. Так что их деятельность связана с глобальными сетями, а их приверженности носят скорее виртуальный характер… По сравнению со старой, новая элита не отождествляет себя с обществом в целом ». «Нетократы — природные тусовщики, они ищут себе подобных и места, где набор предлагаемых стилей жизни наиболее разнообразен. Они будут перемещаться куда угодно, где будет наибольший культурный динамизм » [2].
Если человек социально пассивен, то нет смысла говорить о рациональном управлении им самим своим же поведением. Если же он активен, то активность всегда проявляется в конкретной объективной ситуации жизни. При этом среди своих возможных действий человек пытается выбрать те, которые повлияют на данную ситуацию в пользу реализации одного или нескольких её возможных исходов, которые выбираются из всего множества таких возможностей в качестве целей. Мало кому из людей думающих, интеллектуально и психически здоровых пристала безропотность по ощущению себя всего лишь «пользуемым», а не сознательно использующим что-то. Цель сознательного существования человека — изменить смысл этого своего существования на более желательный из возможных (под этого здесь подразумевается бессмысленность потребительской невоздержанности). Отсутствие же смысла либо различные его симулякры рано или поздно вызывают у человека экзистенциальный вакуум — явление, очень характерное для современных россиян.
Стремление, порождаемое смыслом, в отличие от влечения, порождаемого потребностями, требует от индивида постоянного принятия решения. Смысл человеческой личности всегда связан с обществом, в своей ориентации на общество смысл жизни трансцендирует себя, смысл же общества в свою очередь конституируется существованием индивидов. Р. Коллинз отмечает: «Межпоколенная трансляция понятий и тем обсуждения устанавливает основной смысл того, чем, собственно, занимается данное сообщество» [3].
Дридзе Т. М. считала, что основным механизмом, который обеспечивает глубинные истоки социокультурной динамики, скрытые в характере метаболических процессов, служит социальная коммуникация, располагающая собственным механизмом — текстовой деятельностью, состоящей «в обмене действиями порождения и интерпретации» текстов как единиц коммуникации, воплощаемых (опредмечиваемых) в знаковой форме. Считаем возможной в данной связи осуществление интерпретации точки зрения Лумана с позиций формирования «срединного» типа культуры П. И. Симуша: интерпретация языка как генофонда позволяет уточнить понятие варьирования. Варьирование — это отклонившаяся от того, что прежде казалось естественным и самопонятным, актуализация слов, которая задаёт какое-то одно из возможных отнесений, например, «дерево» как деревянное изделие. Будучи отобранным, такое выражение становится устойчивым, а может быть и основным ожиданием, связанным с дан- ным словом. Появление нового смысла (скажем, коннотация «деревянное»), конденсация в нем всех возможных конкретных ситуаций (скажем, ситуаций, когда мы имеем дело с чем-то деревянным) и является селегированной вариацией. Очевидно, что для селекции такого смысла (т. е. отнесения к другому) слова «дерева», его превращения в новое, самостоятельное ожидание нужны были соответствующие условия. Селекция вариации есть формирование ожиданий — структур коммуникации. Такое превращение требует повторных произнесений, репликации в сходных контекстах, повторяющихся коммуникаций (например, коммуникаций по поводу производства деревянных предметов). Вариация — это начальное, случайное появление нового, отклоняющегося, неожиданного коммуникативного смысла слова, который затем может быть отобран, а впоследствии и закреплён, если применяющие это слово коммуникации получат системно-воспроизводящийся характер, например, если возникнет специальное ремесло по деревообработке и производству деревянных изделий. Тогда становится очевидным, что эволюционная стабилизация ожиданий или структур систем коммуникаций возможна лишь как следствие общественной дифференциации, разделения труда. Новые языковые сочетания — «деревянная лодка», «деревянный дом» — генетические комплексы, рождающие как бы фенотипические образования: системы коммуникаций, выстраивающиеся вокруг запускаемых новым словом или новым смыслом (новым генным комплексом) ожиданий [4].
С какой целью один человек, социальная группа или поколение передаёт информацию другому человеку, социальной группе или поколению? Очевидно, для того, чтобы побудить интерпретатора (человека, принявшего информацию) действовать так, будто какая-либо настоящая, прошлая или будущая ситуация имеет те или иные характеристики. Даже в своей информативной функции язык косвенно предназначен для того, чтобы воздействовать на поведение людей через их сознание. Зачем, например, даётся дезинформация, для чего вводить человека в заблуждение? Очевидно, только для того, чтобы стимулировать какие-то его действия, чтобы определённым образом направить его поведение. Например, через СМИ сообщается об истощении запасов некоторых природных богатств и о том, что акции компании, владеющей соответствующими месторождениями, упали. Ожидаемый и, скорее всего, запланированный результат распространения этой информа- ции — продажа акций мелкими держателями. Может быть, информация была истинной, может быть, ложной, но передана она была с определённой практической целью [5]. При употреблении оценочного высказывания человек имеет целью вызвать какой-то преимущественный подход в отношении некоторых объектов, потребностей или ответов, т. е. опять же подтолкнуть реципиента к определённому способу поведения. Ту же самую цель в явном виде имеет высказывание императивов, просьб, пожеланий.
Вопрос о смысле, являясь глубинной основой человеческой мотивации, теснейшим образом связан с пониманием специфики человеческого существования, его природы и сущности, особенно в ситуации постмодернистских расколотых возможностей. Сегодня необходим адекватный социальный ответ на эрозию ценностей и смыслов и, как следствие, поиск источника восстановления техно-гуманитарного баланса. Свойственные человеку процессы деятельностного смыслообразования нуждаются в системном и систематическом социально-философском изучении применительно к конкретной социокультурной реальности. Миссия философии как раз и заключается в том, что она «побуждает к интеллектуальному стремлению бросить вызов существующим догмам, преобладающим парадигмам или устоявшимся «истинам», которые мешают людям развивать собственные интеллектуальные и этические способности, и открывает дорогу свободному поиску и обновлению идей в интересах человечества» [6]. Судьба социальности (социальной реальности) находится в полном соответствии с реальностью физической: она — продукт развития общества, продукт концепций, которые конкурируют или вытесняют другие, продукт базовых культурных представлений. Важно помнить, что базовые (онтологические) представления о реальности для людей нерефлектирующих задаются извне , кем-то навязываются (например, различными средствами массовой информации).
Человеческая жизнь — это социальное пространство и время реализации личности в соответствии с определёнными ценностями, поэтому человек сегодня пребывает в ситуации повышенной ответственности за смыслополагание своему существованию (в духе Кассирера Э., определявшего человека как существо смысложизненное). Как отмечает В. Г. Федотова, «какими ценностями будет руководствоваться современный человек и какова будет их иерархия — вот проблема нашего времени» [7]. Культура и общество не являются последними осно- ваниями, задающими смысл и способ бытия всему. И общество, и культура сами нуждаются в таких основаниях. Это означает, что сегодня как никогда необходима популяризация богатого, пока в недостаточной степени востребованного философского наследия прошлого, а также плодотворных идей современных российских философов.
-
1. Бард А., Зодерквист Я . Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. С. 185—187.
-
2. Там же . С. 189.
-
3. Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 1024.
-
4. Луман Н. Эволюция. М., 2005. С. 249—250.
-
5. Кузнецова Е. В. Понимание коммуникации в гуманитарном знании // Вестн. Костромского гос. ун-та им. Некрасова. 2010. Т. 15, № 3. С. 26.
-
6. Комадорова И. В. Американская культурная антропология о факторах социокультурной динамики. М. : Academia, 2005. 294 с.
-
7. Подготовка стратегии в области философии (п. 3.6.3 предварительной повестки дня сто шестьдесят девятой сессии Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО). Париж, 19 апр. 2004 г. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340 /134022r.pdf.
Список литературы Техно-гуманитарный баланс современной социокультурной реальности
- Бард А., Зодерквист Я. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. С. 185-187
- Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 1024.
- Луман Н. Эволюция. М., 2005. С. 249-250.
- Кузнецова Е. В. Понимание коммуникации в гуманитарном знании//Вестн. Костромского гос. ун-та им. Некрасова. 2010. Т. 15, № 3. С. 26.
- Комадорова И. В. Американская культурная антропология о факторах социокультурной динамики. М.: Academia, 2005. 294 с.
- Подготовка стратегии в области философии (п. 3.6.3 предварительной повестки дня сто шестьдесят девятой сессии Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры -ЮНЕСКО). Париж, 19 апр. 2004 г. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134022r.pdf.