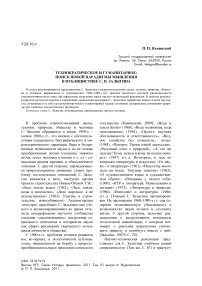Технократическое и гуманитарное: поиск новой парадигмы мышления в публицистике С. П. Залыгина
Автор: Каминский Петр Петрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 6 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются представления С. Залыгина о взаимоотношениях науки, техники, природы, общества и человека, выраженные в публицистике 1960-1980-х гu/; критика писателем научной рациональности (нео)позитивистского типа, как парадигмы мышления эпохи научно-технической революции. В анализе реконструируется методологическая и нормативно-ценностная программа С. Залыгина: выработка нового идеала научности, сочетающего в себе естественнонаучный и гуманитарный идеалы познания; возвращение понимания природы как сложного экологического организма.
С. залыгин, публицистика, проблематика, наука и техника
Короткий адрес: https://sciup.org/14737532
IDR: 14737532 | УДК: 82-4
Текст научной статьи Технократическое и гуманитарное: поиск новой парадигмы мышления в публицистике С. П. Залыгина
К проблеме взаимоотношений науки, техники, природы, общества и человека С. Залыгин обращается в конце 1950-х – начале 1960-х гг., что связано с обстоятельствами социального, биографического и мировоззренческого характера. Вера в безграничные возможности науки и на ее основе преобразования жизни (освоение мирного атома, полет человека в космос и т. д.) – социальная реалия времени и общественного сознания. С другой стороны, зарождающееся природоохранное движение ставит проблему экологических отношений. С. Залыгин вливается в него, выступая против проекта строительства Нижне-Обской ГЭС: «Леса, земли, воды» (1962), «Леса, земли, воды и ведомство», «Дело народное, а не ведомственное» (1963). Участие в строительстве новосибирского Академгородка «изнутри» приобщает С. Залыгина как ученого к активизировавшейся во время оттепели саморефлексии научного сообщества (падение «лысенковщины», настроения социального оптимизма и восприятие науки как сферы реализации творческого потенциала личности и общества).
С 1960-х гг. проблема техники решается им, во-первых, в экологической публицистике, направленной на борьбу с природопреобразовательными проектами советского государства [Каминский, 2009]: «Вода и земля Земли» (1968), «Вода подвижная, вода неподвижная» (1984), «Проект: научная обоснованность и ответственность», «Водное хозяйство без стоимости… воды» (1985), «Поворот. Уроки одной дискуссии», «Разумный союз с природой», «А что же дальше? Кому нужен и кому не нужен поворот» (1987) и т. д. Во-вторых, в эссе по вопросам литературы и искусства: «От науки – к литературе» (1961), «Искусству много дела на земле. Текущие заметки» (1963), «О художественном языке и художественном образе», «Интервью у самого себя» (1969), «НТР и литература. Размышления и догадки» (1973), «Литература и природа» (1980), «Интеллект и литература» (1986) и т. д. Позиция С. Залыгина противоречивая. На протяжении 1960–1980-х гг. она содержит позитивистскую убежденность в возможностях науки познать и улучшить жизнь. С другой стороны, включает размышления о деструктивном потенциале техногенной цивилизации, с которым возникает «…реальная перспектива уничтожить природу и погибнуть вместе с ней» [Залыгин, 1987б. С. 70].
Научно-техническая революция представляет для С. Залыгина «эмблему нашей современности» [Там же. С. 67] и трактует-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 6: Журналистика © П. П. Каминский, 2011
ся традиционно для отечественной экологической мысли как пограничная стадия в развитии цивилизации, несущая глобальные угрозы и требующая от человека нового самоопределения, коррекции своей позиции в мире.
Развитие науки и технологий ко второй половине ХХ в. меняет «саму природу труда» [Залыгин, 1987б. С. 128], что означает коренную трансформацию парадигмы существования в социуме и онтологии, взятых в глобальной исторической перспективе; наука и техника определяют устройство жизни. С. Залыгин считает, что естественная эволюция завершена: «Количество техники, научных открытий, коммуникаций, информации, интересов, устремлений, количество самих людей достигло таких величин, когда все это не может существовать в прежнем качестве, прежних условиях. И дело, следовательно, уже не в эволюции, а в спонтанном развитии» [Там же. С. 68]. В результате окончательной эмансипации человека от природы развитие приобретает «спонтанный», т. е. самопроизвольный характер, техноценозы эволюционируют по своим внутренним законам, независимо от человеческой воли и природных закономерностей. Динамика научно-технического прогресса развивается экспоненциально («...вторжение будущего в настоящее» [Там же]), и этот процесс необратим: «Революции закрытию не подлежат, тем более глобальные. <...> Помимо того, что прогресс нам нужен безусловно, мы нужны ему тоже, и если бы мы захотели повернуть вспять и отказаться от него, мы не в силах были бы это сделать» [Там же. С. 69]. Человечество достигает точки бифуркации - рубежа, предела развития при прежних подходах, когда существование становится неустойчивым и неопределенным, что предполагает два возможных сценария: неразрешимые проблемы в ситуации нерегулируемого развития прогресса или осмысленное, упорядоченное существование.
От констатирующих суждений С. Залыгин уже в 1960-е гг. переходит к концептуальной критике научной рациональности (нео)позитивистского типа как парадигмы мышления эпохи научно-технической революции и вырабатывает альтернативный методологический проект, который, с одной стороны, восходит к традиции русского космизма (В. И. Вернадский, К. Э. Циолков ский, Н. Ф. Федоров), с другой стороны, вплотную приближается к идеям западноевропейской философии (Э. Кассирер, Ю. Хабермас и т. д.).
В публицистике писателя выделяется два проблемных ракурса. Во-первых, недостаточность современной научной рациональности в познании мира. Во-вторых, разрыв между практикой и формами рефлексии порождаемого ею технократического дискурса. Эти два плана разворачиваются в рефлексии С. Залыгина о взаимоотношениях науки и литературы как двух форм семиотического освоения жизни.
С. Залыгин вскрывает ограниченность картины мира, выстраиваемой методами современной науки. Современная наука как форма мышления и деятельности воплощает механистический аналитизм, расчленяющий реальность на составляющие: «Общий и неделимый организм природы мы поделили между великим множеством отраслей. Их так много, что теперь уже никто не может их сосчитать и обозначить» [Залыгин, 1987а. C. 67]. Универсализация математической рациональности сводит полноту и разнообразие природы, объекта науки, до абстрактных законов. Природа, для С. Залыгина, высшая разумная организованность, сложным образом упорядоченная, уравновешенная динамическая система, в которую генетически включен человек. Как объект познания она требует целостного взгляда, который бы учитывал все реально существующие в ней взаимосвязи, структурные переходы, детерминизм.
Современная научная рациональность не только дифференцирует полноту реальности по разобщенным предметам, но и редуцирует ее до узко прагматического аспекта, проявляет «извне деформирующее» (Ю. Хабермас) отношение к миру. Непосредственная цель науки (познание действительности средствами разума) замещается установкой на манипуляцию природой. Утилитарная научно-техническая рациональность подменяет собой разум. Разум же, для С. Залыгина, начало, заложенное в человеке природой, инвариантное, в этом значении, разумной организации (упорядоченности) онтологии. Отрываясь от природы, относясь к ней как к объекту производства, человек лишается возможности ее нефрагментарного познания, синтеза.
Такой тип рациональности в эпоху научно-технической революции преодолевает институциональные рамки и экстраполиру- ется на все возможные сферы отношений, систему культуры в целом. С. Залыгин исходит из ограничения мировосприятия современного общества узкоспециальными, научно-техническими аспектами (в соответствии с общественным разделением деятельности). Диверсификация социальных практик, их обособление, специализация языка приводит к тому, что семантическое поле социокультурной коммуникации становится дискретным. Новое состояние жизни, таким образом, определяет закон отчуждения – отчуждение различных сфер практики, дифференцированных по специальным отраслям (специальностям), как следствие – отчуждение людей друг от друга: «Каждая из <…> узких специальностей непонятна и является табу для других, в каждой замечается стремление к автономии, к созданию своих собственных понятий, своего собственного языка, а все это приводит к отчуждению друг от друга людей даже в семье: жена не представляет себе, чем занят муж, отец – чем заняты его дети» [Залыгин, 1987б. С. 128].
В процессе специализации наука (как и другие социокультурные практики, в том числе литература, испытывающие тенденции технической рациональности) оказывается замкнутой в себе. Самодостаточность не подразумевает рефлексии научных и технологических результатов, а изолированность от общества исключает внешний контроль, оценку, социальную экспертизу: «…наука начинает работать как бы на самое себя, она открывает новые законы, теории, эффекты, постулаты, зависимости, парадоксы, но не создает к ним отношения, не вырабатывает их оценок, не размышляет над последствиями своих собственных открытий» [Там же. С. 69].
Альтернативный тип рациональности представляет литература. Гносеологическую природу литературы определяет ее предмет – «эмпирический мир», непосредственная, первичная – дотеоретическая реальность, данная через органы чувств. Реальность понимается как динамическая система постоянного становления и изменения, всестороннее теоретическое обобщение которой средствами науки (систематизация, формализация) невозможно – фрагментарная, дискретная научная картина мира нивелирует междисциплинарные связи и отношения, реальность всегда оказывается шире и богаче теоретических моделей в науке: «…ученые не говорят о том, о чем сказать не умеют, и это их незнание всегда будет больше, чем их знание. Мир эмпирический, неопознанный, “неузаконенный” в формулах, всегда будет больше опознанного» [Там же. С. 42–43].
Познание в литературе отличает синтетизм, который достигается при помощи художественного образа. В художественном образе создается целостная, семиотически завершенная модель реальности, обеспечивающая универсальность видения, преодолевающая фрагментарность восприятия, свойственную науке. Образ, отражая частное в бытии, выражает систему отношений этого частного, возведенных до всеобщего: «Образ художественного произведения – это ведь не только он сам, а всегда он и его отношение к чему-то. <…> В конце концов, это он и жизнь, он и его отношение к жизни» [Там же. С. 26]. Через отношения человека и общества литература выходит к исследованию всей полноты реальности, приближается к пониманию всеобщих закономерностей (отношений) бытия: «…для него (писателя. – П . К . ) очень важно и понимание, и глубокое ощущение того, как отношение человека к самому себе становится отношением этого человека к миру. <…> А отношение человека к другим людям – опять-таки только часть целого, т. е. часть его отношения ко всему окружающему миру, часть, которая это целое отражает» [Там же. С. 43].
На основании этих представлений формируется методологический проект С. Залыгина. Ограниченность, специализированная узость научно-технической рациональности и картины мира преодолевается путем сближения, согласования с искусством (гуманитарным дискурсом): «…контакты между искусством и наукой, идеалом которых является, вероятно, Древняя Греция» [Там же. С. 69]. Научная рациональность заимствует у литературы ценностное, рефлективное начало; антропологический модус универсализирует знание. Человек, как ценность и как предмет представления, ставится в центр научно-технической картины мира, когнитивные и технологические акты оказываются нагруженными нравственным суждением: «И если мысли о людях – которые столь ярко выражал в ХХ веке, скажем, Экзюпери, а в XIX веке, например, Достоев- ский – ничему не научат науки, тогда им можно предсказать плохой конец» [Залыгин, 1987б. С. 19].
В результате возникает «этика производственных отношений» и «культура взаимодействия с природой» – этос науки (техники), ответственность за продолжение жизни, основанная на осознании глубинной связи человека с природой: «И если в своем неудержимо-бурном развитии наука превратила в нашем сознании землю в почвоведение и геологию, воздух в метеорологию, а воды в гидрологию, то теперь она же обязана снова сблизить нас с природой в ее нераздельно-целостном состоянии, должна научить нас называть вещи своими собственными именами и, если на то пошло, создать новое, современное и социально и научно обоснованное язычество, т. е. создать союз человека с природой» [Залыгин, 1987а. C. 62]. В культурфилософском плане это означает создание открытой иерархии равноправных форм познания и деятельности. Согласно утверждению писателя, этика должна стать наукой «…столь же обязательной, как математика или геология. Этика должна быть связана со всеми нами и покоиться на своей безусловной необходимости» [Там же. C. 59].
Сближение, преодоление замкнутости форм мышления и дискурсов, дискретности семиотического поля культуры достигается в социокоммуникации, пространстве согласования смыслов. Способ коммуникативного взаимодействия науки и общества обозначается как «популяризация». «Популяризация», по С. Залыгину, содержит потенциал методологической рефлексии характера и границ научно-технической деятельности, так как предполагает сторонний, отчужденный от предмета взгляд, преодоление методологической ангажированности, (само)экспертизу: «…наука должна <…> оставаться главным популяризатором и комментатором своих собственных идей, так как в «переводе» всегда могут обнаружиться крупные и даже неисправимые ошибки. <…> Наука должна учиться быть доступной пониманию, по крайней мере, большинства людей, если уж не всех без исключения…» [Залыгин, 1987б. С. 69]. Но, с точки зрения писателя, возможностей одной науки недостаточно, «…наука говорит <…> своим собственным, специальным, а не общедоступным языком, так что кто-то должен взять на себя обязанности переводчика» [Там же].
Функцию «переводчика», посредника между обществом и научно-техническим прогрессом, должна взять на себя литература. С начала 1960-х гг. подчеркивается задача искусства в познании (самопознании) науки: «Все дело в том, что до сих пор и дифференциал, и интеграл, и тем более кибернетическая машина были принадлежностью «высшего» и специального, т. е. не всеобщего, образования. <…> Почему бы <…> поэтам и не воспеть кибернетику и интеграл?» [Там же. С. 43]. Специфика образного познания в литературе обеспечивает независимый и целостный взгляд на научнотехнический прогресс, благодаря чему достигается возможность нравственной коррекции научно-технической рациональности: «И вот здесь-то, кажется, и определяется специфическая и едва ли не главная роль литературы: осуществлять преемственность настоящего с прошлым, вписывая человека в природу, в его духовный опыт, не позволяя науке вообразить, что она – сегодняшняя – всесильна и способна вычертить новую и совершенно самостоятельную кривую» [Там же. С. 76]. Делая науку предметом художественного познания, литература реализует свою миссию как метаязыка культуры.
В этом значении литература способствует самоопределению человека в бытии, этическому осмыслению его нового статуса, средств и возможностей. Человек, осознавая себя неотъемлемой частью природы, должен восстановить естественные отношения с ней: «Ощущение того факта, что человек и окружающая его природа суть одни и те же химические элементы, что он и она – это единый процесс существования нигде и ни в чем не повторимый, что “быть или не быть?” – вопрос, который нынче в равной мере относится и к нам, и к ней, – ощущение и понимание всего этого только и может этот вопрос решать» [Залыгин, 1987а. C. 62]. Писатель апеллирует к идее В. И. Вернадского о ноосфере и разворачивает эту концепцию в ходе собственных размышлений: «Природа, сама земля и все человечество создали и вскормили человека, и человек имеет определенные обязанности по отношению к этому миру. Именно к этому, а не к какому-то другому. Обязанности не только в нравственном понимании, но и в чисто практическом – в правилах и законах своего существования, если не ставится целью это существование прекратить раз и навсегда…» [Залыгин, 1987б. С. 22].
В очерке 1973 г. «НТР и литература» выделяются три уровня (стадии) осмысления обществом проблем техники: эмпирический (интуитивно-чувственный), теоретический (рациональный), праксиологический. С. Залыгин считает, что человек находится еще только на первом этапе – эмпирически ощущает новое состояние жизни, осваивает его интуитивно, но не может пока постигнуть при помощи разума, выразить в умозаключении: «Сначала мы как бы даже не умом, а только зрением схватываем этот символ – НТР, затем воспринимаем его эмоционально… <…> и только после пытаемся осмыслить и понять, что же за этим обозначением действительно скрывается… <…> И вот тут-то, пытаясь достигнуть определенной конкретности своих представлений, столь для нас существенных, мы попадаем в очень затруднительное положение: наше сознание оказывается неподготовленным к такой работе, то и дело начинает казаться, что ты вообще не способен к ней» [Там же. С. 67]. Неготовность человека объясняется, во-первых, беспрецедентным характером современных изменений образа существования, во-вторых, отсутствием необходимой для этого временной дистанции. В-третьих, диспропорцией, неравномерностью развития цивилизации – разная динамика научно-технического прогресса и духовного развития цивилизации обусловливает несоответствие достижений науки и техники уровню психологического, нравственного и социального развития: «Открытия физики как бы опережают свой век, к использованию этих открытий человечество далеко не всегда подготовлено психологически, нравственно и в плане социальном, этот разрыв создает угрозу самому существованию рода человечества» [Залыгин, 1987б. С. 19–20]. Человек испытывает недостаток этического самосознания и исторического сознания (ограничение времени существования сегодняшним днем), «…про-должает нередко пренебрегать своим опытом и своей мудростью» [Там же. С. 41]. Формирование целостного знания (самосознания) общества, интеллектуальное отражение объективной реальности научно-технического прогресса имеет характер импе- ратива, составляя основу для практической коррекции способов существования, выработки ценностных критериев оценки деятельности, планирования и прогнозирования будущего («...практическая необходимость сегодняшней организации завтрашнего дня...» [Там же. С. 68]).
К 1980-м гг., в ходе общественной деятельности С. Залыгина, борьбы с проектом перераспределения стока северных и сибирских рек в южные районы страны, складываются представления о роли общественности (гражданских институтов) в формировании нового, «ноосферного» мировоззрения. С точки зрения С. Залыгина, именно общественность, как высшая форма социальной интеграции, оказывается способной сформировать универсальный, целостный взгляд на реальность: «Значение и настоятельная необходимость в общественном мнении определяются нынче <…> необходимостью видеть действительность такой, какая она есть, без ведомственного лоска и без ведомственной узости, наконец, видеть ее, действительность, не по отдельным частям, а в целом» [Залыгин, 1987a. C. 23]. Общественное мнение формирует систему мировоззрения общества – взгляды на все уровни организации бытия – природного и социального, выполняя, таким образом, функцию не только познания внешней среды существования общества, но и его самопознания: «И только общество общими усилиями может создать более или менее целостную картину и самого себя, и окружающей его природы, и мира, и своей страны. Его прямое назначение – воспринимать жизнь в возможно широком, всестороннем плане. И каждую проблему тоже» [Там же. C. 24]. Формами такого самопознания называются литература и публицистика.
Итак, уяснение негативных, деструктивных аспектов техногенной цивилизации в экологической публицистике С. Залыгина составляет основание для критики научноинженерной картины мира (технократического дискурса). Писатель утверждает необходимость восстановления единства понятия разума, суженного до когнитивноинструментального значения. При этом положения о кризисе научной рациональности (Э. Гуссерль) не выводятся, натуралистический объективизм современной науки не подвергается сомнению. Можно говорить о том, что, не отрицая современную парадиг- му естественнонаучного мышления как таковую, С. Залыгин формирует его аксиологический, нормативно-ценностный проект.
В исследовании внутренних закономерностей (структур) культуры (науки, литературы, языка) выражается методологическая программа: выработка нового «идеала научности», сочетающего в себе естественнонаучный и гуманитарный «идеалы познания» (В. М. РозинДля этого необходима ревизия отношений, преодоление грани между технократическим дискурсом и гуманитарносоциальным дискурсом, определение подобающего места науки в системе иных видов, способов познания, составляющих культуру. Объединение онтологий их предметов создаст своего рода метаонтологию – возвращение к пониманию природы, не только механистически (как физической реальности), но как сложного экологического организма, в который встроен организм социальный («…природа – это не только то, что написано на языке математики и реализуется в инженерии, <…> нет природы самой по себе, вне нашего к ней отношения и деятельности…» [Розин, 2000. С. 237]). В размышлениях о гносеологических возможностях литературы в универсализации знания С. Залыгин близок идеям «Философии символических форм» Э. Кассирера: синтетическое начало культуры, конституирующей мир, возвышающей феноменологическое до всеобщего в символическом акте [Кассирер, 2002]. Кардинальный сдвиг в сторону социогуманитарной парадигмы обеспечит «закон техногуманитарного баланса» (А. П. Назаретян).
Условием осмысленной регуляции эволюции техноценозов является принцип «опережающей рефлексии» (М. Рац). Рассуждая о коммуникативных механизмах осознания (самосознания) науки и техники в обществе, С. Залыгин выходит к отдельным идеям концепции «коммуникативной рациональности» Ю. Хабермаса: общественность, как социальный субъект, ориентированный на рациональное обсуждение, проблематизацию, обоснование значимых проблем, в ходе публичной рефлексии создает интерсубъективно значимые нормы [Хабермас, 2000]. Гражданское общество и литература, трактуемая в публицистике писателя как форма самосознания коллективного целого (социума), содержат возможности конституирования техники, формируют, как альтернативу проекта овладения природой, социальный проект сохранения жизни на Земле, минимизации и предотвращения негативных последствий техногенной цивилизации, проект контролируемого, осмысленного развития человечества.