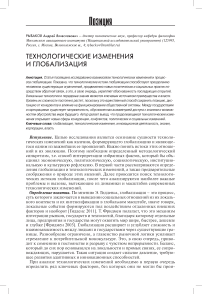Технологические изменения и глобализация
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию взаимосвязи технологических изменений и процессов глобализации. Показано, что технологические истоки глобализации способствуют преодолению человеком существующих ограничений, продвижению новых политических и социальных практик посредством обратной связи, а это, в свою очередь, укрепляет обоснованность последующих открытий. Уникальные технологии и передовые знания являются ключевым источником преимущества и власти. Уровень их сложности постоянно растет, поскольку это единственный способ сохранить позицию, дистанцию от конкурентов и влияние на функционирование общественной системы. Между государствами и корпорациями существует напряженность, обусловленная асимметрией доступа к знаниям и возможностям обустройства мира будущего. Автор делает вывод, что продолжающиеся технологические изменения открывают новые сферы конкуренции, конфликтов, политических и социальных изменений.
Глобализация, технологические изменения, инновационная деятельность, знания, корпорации, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/170211048
IDR: 170211048
Текст научной статьи Технологические изменения и глобализация
Вступление. Целью исследования является осознание сущности технологических изменений как явления, формирующего глобализацию и являющегося одним из важнейших ее проявлений. Важно понять истоки этих отношений и их эволюцию. Поэтому необходим определенный методологический синкретизм, т.е. способ интерпретации избранных фактов, который бы объединял экономическую, политологическую, социологическую, институциональную и культурную рефлексию. В первой части рассматриваются определения глобализации и технологических изменений, а также предварительные соображения о природе этих явлений. Далее проводится поиск технологических истоков глобализации, после чего анализируются наиболее важные проблемы и вызовы, вытекающие из динамики и масштабов современных технологических изменений.
Определение понятия. По мнению Э. Гидденса, глобализация – это процесс, суть которого заключается в выведении социальных отношений из их локального контекста и их интенсификации в глобальном масштабе, иначе говоря, локальные события формируются под воздействием отдаленных внешних факторов и наоборот [Гидденс 2011]. Т. Фридмен полагает, что это механизм интеграции рынков, государств и технологий, благодаря которому отдельные лица, предприятия и государства могут охватить мир шире, быстрее, дешевле и глубже [Фридмен 2003]. Глобализация расширяет и углубляет сложность и взаимозависимость между людьми и государствами через существующие границы. Разнообразие ограничено, а главенство рыночной логики усиливает стремление к потребительской монокультуре. Это, в свою очередь, приводит к сомнению в постоянстве и разрыву с чувством непрерывности. Баланс, который до сих пор основывался на локальности и прямых связях, ее сопровождающих, нарушается. Такая ситуация создает сильное давление, требующее развития адаптивных и инновационных способностей.
При анализе технологических изменений необходимо в первую очередь определить ряд ключевых факторов, без которых они не могли бы прои- зойти. Их природа выражает человеческое любопытство, творческую страсть, креативность и стремление к знаниям как в форме экспериментов, проб и ошибок, так и в форме постепенных улучшений. Иногда изменения происходят случайно, а иногда они являются результатом революционных научных открытий. Их движущей силой является заложенная в психологической структуре человека потребность разрешить определенное неудобство, связанное со стремлением преодолеть ограничения природного мира и контролировать его. Вышеуказанные адаптивные и инновационные возможности также являются ответом на последствия технологических изменений и обусловливают их дальнейшее усиление. Феномен технологического вечного двигателя заключается в том, что одна решенная проблема открывает перспективу возникновения новых проблем.
В широком смысле «технологические изменения, – по мнению И.В. Черданцевой и М.С. Егоровой, – включают в себя изменения, происходящие в существующих на данный момент времени технологиях, изменения в ключевых принципах построения и организации технологического процесса, который в свою очередь включает в себя и создание технологических инноваций. Все это приводит к изменению технологической структуры экономики» [ Черданцева, Егорова 2013]. В экономической теории – это эндогенный процесс, имеющий в настоящее время решающее значение для экономического роста и развития. Это результат сознательных или интуитивных инвестиций со стороны субъектов, стремящихся максимизировать свою прибыль в условиях неопределенности и реагирующих на рыночные стимулы и возможности путем преобразования новых знаний в товары, имеющие практическую ценность [Romer 1990: 98]. Суть здесь в том, чтобы вызвать (не)преднаме-ренные социальные и экономические эффекты, т.е. более полное удовлетворение потребностей и создание новых. По этой причине технологические изменения отождествляются с быстрым ростом вычислительной мощности в связи с так называемой экономикой знаний ( knowledge economy ). Ключевым моментом в данном случае является взаимодействие с устройствами для генерации новых знаний посредством обработки и коммуникации, объединенное в кумулятивный эффект обратной связи между инновацией и ее использованием. Революция в информационной технологии представляется отправным пунктом в анализе сложностей становления новой экономики, общества и культуры [Кастельс 2000: 28]. При этом «технология есть общество, и общество не может быть понято или описано без его технологических инструментов» [Кастельс 2000: 29].
Результатом технологических изменений могут стать как новые возможности производства все более сложных материальных товаров и услуг, так и решения, ориентированные на процесс их производства (использование альтернативных материалов, их новых, более совершенных комбинаций, технологий производства) и их распределение среди получателей. Таким образом, технология воплощается в инструментах, материалах, артефактах, кодах, формулах, алгоритмах, руководствах, неявных знаниях и ноу-хау [Balland et al. 2022].
Обратим внимание еще на один аспект. Как подчеркивает M. Гертлер, знания имеют решающее значение для технологических изменений; их эффективное создание, идентификация, передача и применение происходят в определенной институциональной среде и социокультурном контексте. Исследования по этой проблеме сочетают специфику данного места (экономическая география) с процессами создания новых знаний (инновации)
и управления ими. Поэтому необходимо рассматривать взаимосвязь технологических изменений и глобализации через призму деятельности предприятий, особенно международных корпораций, в связи с концепцией жизненного цикла продукции и регионов. Регионы представляют собой благоприятную институциональную среду для процессов обучения, гибкой специализации производства, реализации выгод агломерации и желаемой траектории развития. Это означает, что технологические изменения часто представляют собой процесс, зависящий от выбранного пути и сформированный взаимозависимостью решений, принятых на протяжении многих лет, что создает специфические для конкретного места условия для развития знаний [Gertler 2003].
Исторический анализ. При анализе технологических истоков глобализации стоит рассмотреть вопрос, что сделало мир более взаимозависимым за последние столетия. Если предположить, что движущим фактором технологических изменений является стремление удовлетворить человеческие потребности как низшего (биологическое выживание, обеспечение безопасности), так и высшего (любопытство, интеллектуальное удовлетворение) порядка, то эпоху Великих географических открытий можно считать символическим началом сокращения восприятия расстояния и усиления взаимозависимости. Технологический и интеллектуальный прорыв в области математических и естественных наук кардинально изменил способ понимания мира и происходящих в нем процессов. Постепенно расширялся доступ к информации и способы ее обработки (изобретение книгопечатания). Это послужило поводом для оспаривания позиции центров знаний того времени, которые имели монополию на приобретение знаний и, таким образом, могли формировать обязательную интерпретацию.
Усовершенствование судоходства, развитие навигационных технологий и картографии привели к тому, что контакты с новыми территориями стали регулярными. Использование военного и технологического преимущества великими державами того времени привело к организованному завоеванию, установлению правящего режима на покоренных перифериях, регулярной эксплуатации и накоплению капитала посредством неэквивалентной торговли. Более того, само время стало дефицитным товаром. По словам Нила Постмана, парадокс заключается в том, что часы были изобретены людьми, которые хотели более строго посвятить себя Богу, и, в конечном итоге, они стали самой полезной технологией для тех, кто посвятил себя накоплению денег [Postman 1992: 69].
Это были ключевые факторы постепенного развития технократической капиталистической системы и индустриальной экономики в Западной Европе. Рост благосостояния и перспективы прибыльного удовлетворения растущего спроса на дефицитные товары стали новыми факторами, преобразующими политические и социальные системы и институты. В этом контексте следует также вспомнить влияние современной философской мысли (рационализм, эмпиризм, утилитаризм), которая «одомашнила» интеллектуальную изобретательность и находчивость человека, обожествила технику как источник силы и прогресса и тем самым изменила восприятие отношений Бога и человека.
На этом фоне промышленная революция XVIII в. выглядит совершенно естественным и очевидным процессом. Разработанные в то время технологические решения значительно усовершенствовали производство, благодаря чему его себестоимость планомерно снижалась, увеличивалось количество и ассортимент выпускаемой продукции, улучшалось ее качество. Такое положение дел также привело к увеличению спроса на инвестиционные товары и транспортные средства. Внедрение новых решений также существенно изменило спрос на человеческий труд, его значимость и характер. На протяжении многих лет эти тенденции, хотя и с разной интенсивностью, сопровождались усилиями по либерализации, т.е. устранению барьеров в торговле товарами и ограничений на мобильность факторов производства, особенно капитала и – хотя и более избирательно – рабочей силы.
Современность, особенно после распада советского блока, является временем так называемой гиперглобализации. Ее движущим фактором был особый акцент на практическом применении и коммерциализации знаний, созданных в процессе научных исследований. Динамичный рост вычислительной мощности все более широко используемых компьютеров и эффективных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствовал цифровизации экономики, в т.ч. появлению и развитию компаний, не знающих пространственных и территориальных ограничений (так называемые прирожденные глобалисты). Все большая часть производственных процессов в рамках так называемых глобальных цепочек создания стоимости ( GVC ) в настоящее время реализуются в виртуальном пространстве. ГЦСС также являются механизмом гиперглобализации, т.е. создают все большее число связей, углубляющих интеграцию экономик отдельных стран с мировой экономикой, что является выражением замены территориальной экспансии экономической.
Обработка информации и заключение сделок больше не требуют физического перемещения. Это, в свою очередь, открыло тенденцию к повышению значимости услуг (сервитизация) в создании богатства и процветания. Местные потребители все чаще и охотнее приобретают нематериальные товары, при этом значительную часть своей жизнедеятельности проводя в глобальном Интернете. Более того, интенсивное развитие глобализированных финансов привело к существенному ослаблению, если не к полному разрыву, связей с функционированием реальной экономики. Однако опыт финансового кризиса 2008–2009 гг. показал, как относительно быстро и легко спекулятивный характер сделок может привести к разрушению и деконструкции (не)реальности, выстроенной вокруг них. Стоит также вспомнить так называемую трилемму Д. Родрика, согласно которой существует неразрешимое противоречие между гиперглобализацией, суверенитетом и демократией [Родрик 2014].
Проблемный подход. Накопление (не)ожидаемых последствий описанных выше процессов привело к тому, что структуры знаний стали источником силы и власти в условиях растущей асимметрии, взаимозависимости и сложности. Поэтому политическая задача состоит в том, чтобы использовать их для дальнейшего поиска путей усиления/сокращения наших/чужих преимуществ и направить их на реализацию национальных интересов. Необходимость гонки за технологическое лидерство стала фактором, формирующим комплекс мер государственной политики, ориентированных на индустриализацию, эффективность, инновации и конкурентоспособность для обеспечения стимулов дальнейшего экономического роста и развития.
На рубеже XX и XXI вв. популярной стала точка зрения, что возможности прямого влияния государств существенно ограничены или даже подорваны. Классической работой на эту тему является книга Сьюзен Стрейндж «Отступление государства», изданная в 1996 г. [Strange 1996]. Основой после- военного мирового порядка стала политика постепенной дерегуляции и либерализации международного экономического сотрудничества и потоков капитала. Благодаря институционально и политически обусловленной глобализации было создано пространство для глубокой реструктуризации и расширения международных предприятий.
Новым источником власти высокоразвитых стран являются возникшие там корпорации. Именно благодаря им произошла интеграция рынков и углубление взаимозависимости «снизу–вверх», что составляет суть экономического измерения глобализации. Они стали доминирующей силой технологических изменений, вкладывая собственные ресурсы в инновационную деятельность и оптимизируя принятую бизнес-модель.
Необходимость разработки уникальных конкурентных преимуществ, в свою очередь, означает, что экономическая система, и особенно предприятия, которые ее составляют, должны быть готовы принять вызовы, возникающие в результате глобализации, т.е. высвобождения и расширения масштабов рыночной конкуренции. Особое внимание сегодня уделяется инновационной деятельности, которая является производной от существующих ресурсов знаний, расходов на исследования и разработки, а также человеческого капитала.
Учитывая изложенное выше, можно считать, что творческие компетенции, связанные с продуктивными знаниями, стали фактором, определяющим конкурентную позицию. Это, в свою очередь, означает, что сами технологические изменения ведут к еще большему неравенству. Это снижает спрос на низкоквалифицированных работников и лишает их перспектив профессионального развития [Гребер 2020].
В то же время это повышает положение и значимость тех, кто обладает более высокими компетенциями, хотя они и не находятся в полной безопасности в контексте развития искусственного интеллекта. Привилегии, связанные с корпоративным членством или даже национальным гражданством, перестали применяться, поскольку растущая глобальная конкуренция продолжает менять геометрию работы и рынков [Кастельс 2000].
Эта характеристика, в свою очередь, потребовала более гибкого подхода к формам организации рабочей среды с целью повышения качества и эффективности осуществляемой деятельности. Также стоит подчеркнуть, что новые технологические решения усиливают контрольно-надзорные инструменты менеджеров – потенциально узкой и привилегированной элиты сверхлюдей (техноструктур), которые благодаря своим способностям и креативности могут принимать важнейшие решения [Харари 2019]. Таким образом, технологические изменения влияют на перераспределение власти и престижа.
Географическое распределение и реконфигурация корпоративных организационных структур с течением времени привели к фрагментации производственного процесса в рамках вышеупомянутых ГЦСС. Место, которое они занимают, и выполняемые ими задачи оказывают сильное влияние на возможности создания добавленной стоимости и накопления излишков капитала. Это необходимо для планомерного продвижения по технологической лестнице к более передовым производственным и инновационным возможностям. Асимметрия ресурсов и власти между корпорациями и государствами означает, что последние, особенно те, которые имеют (полу)периферийную природу, желая получить выгоду от доступа к знаниям и технологиям и тем самым достичь цивилизационного прогресса, начали конкурировать за приток прямых иностранных инвестиций. Их фактические и ожидаемые по- следствия представляют собой рычаг в международных переговорах, позволяющий гегемонам распоряжаться миром в соответствии со своими собственными предпочтениями. По этой причине государства, насколько это возможно, стараются создать международное разделение труда таким образом, чтобы это отвечало их политическим и экономическим интересам.
Регулируемое в таких условиях распространение технологических знаний определяет темпы, масштабы и интенсивность давления, требующего перемен, связанных с глобализацией и сохранением гегемонистского статус-кво. Упомянутые (полу)периферии призваны лишь оставаться наиболее дешевыми и эффективными исполнителями чужих идей. В то же время они подвергаются давлению имитационной модернизации, которая, как правило, не соответствует их конкретным потребностям развития в данном месте и времени. Несоответствие между имеющимися, но недоступными технологическими решениями и обеспеченностью стран факторами производства обусловливает различия в производительности (сравнительные преимущества), что имеет ключевое значение для структуры, направлений и динамики торговли, а также неравенства доходов в мире [Gancia, Zilibotti 2009: 118].
Протекционизм также претерпел существенные изменения в результате технологических изменений. В связи с тем, что уникальные способности, компетенции и технологии являются источником долгосрочных конкурентных преимуществ, все большее значение приобретают их новые формы, особенно технические стандарты (сертификаты, свидетельства, лицензии). Они используются за пределами границ (являются элементом действующего на данной территории закона), и их создание часто является результатом лоббирования хорошо организованных групп интересов. Используя недостатки современной либеральной демократии и в то же время постоянно легитимируя свое собственное положение и значимость, корпоративная среда научилась эффективно социализировать негативные последствия своей деятельности (включая сами издержки) и в то же время приватизировать прибыли.
Важным элементом технологического измерения глобализации является тот факт, что решения (пост)индустриальной эпохи уменьшили чувство пространства и расстояния в межличностном общении [Кастельс 2000]. Принципиальное значение здесь имеет развитие Интернета и связанной с ним логики децентрализованной многоузловой сети, предлагающей постоянно растущие возможности для генерации, передачи и обработки данных, информации и знаний. Однако их обилие привело к возникновению ряда новых проблем, связанных с отбором, возможностями критического анализа, оценкой достоверности.
Глубокие изменения в информационных технологиях вызвали радикальную когнитивную асимметрию и стимулировали размышления о состоянии современных медиа, с одной стороны, находящихся под контролем корпоративных структур, а с другой – открытых для деятельности даже отдельных людей. Основная проблема заключается в том, что они не фильтруют информацию в соответствии с критериями истины и понимания, а конкурируют в основном за эмоциональное внимание [Postman 2005]. В настоящее время истина определяется высоко позиционируемыми результатами в поисковой системе Google , что представляет собой не что иное, как строго корпоративное технологическое решение [Харари 2019].
Корпоративные структуры, обладающие соответствующими аналитиче- скими ресурсами, все больше полагаются на научный подход, согласно которому сложность человеческого поведения является результатом определенных закономерностей. Если эти алгоритмы можно расшифровать, то поведение как отдельных людей, так и социальных групп можно будет формировать в желаемом направлении, а людей можно будет рассматривать как несущественный фактор или даже как новый вид одомашненных животных [Harari 2018].
Созданные таким образом потребности, особенно те, для которых сильным стимулом является изменение эмоциональных состояний посредством проектирования впечатлений, открывают новые возможности для деловой активности. Сочетание имеющейся инфраструктуры исследований и разработок, а также высококвалифицированных сотрудников и новых технологий позволяет сегодня отойти от стандартизированного массового производства. Более того, в динамичных условиях информационной революции корпорации стали важным ориентиром с точки зрения гибкости и способности быстро адаптироваться в качестве стратегии преодоления неопределенности и нового набора угроз.
Представленная выше технологическая интерпретация глобализации побуждает к размышлениям о дальнейшей траектории этих процессов. Если исходить из тезиса, что корпорации – это сила, формирующая мир будущего, можно логично задаться вопросом, в каком направлении движется современный капитализм. Здесь показательно название книги Ш. Зубофф «Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти» [Зубофф 2022]. Речь идет о существовании нового социально-экономического порядка, в котором человеческий опыт рассматривается как бесплатное сырье для скрытых практик, служащих аналитике будущего. Их цель – точность прогнозирования продаж, а также расширение возможностей поведенческой модификации.
Суть проблемы связана с получением, казалось бы, незначительных цифровых данных, их агрегацией и дальнейшей обработкой с целью более эффективного считывания человеческих реакций и одновременного влияния на них. Это вызывает серьезные опасения относительно конфиденциальности и еще больше усиливает асимметрию ресурсов между корпорациями, государством и обществом. Эффективность такого подхода обусловлена механизмом подрыва, т.е. медленного смещения границ и перенаправления внимания на несущественные вопросы. Он воспитывает безразличие к вторжению в личную жизнь, систематически знакомя человека с технологиями, вплетая их в ткань повседневной жизни и предлагая незначительные выгоды, а также продвигая логику неизбежности организованных изменений. Датафикация социальной реальности происходит посредством ее насыщения сверхдискретными и повсеместными датчиками и относительно дешевым/бесплат-ным доступом к Интернету. Это, в свою очередь, позволяет генерировать постоянный поток данных о нашем поведении, подвижности, чувствах и реакциях на определенные стимулы. Поэтому было бы разумным предположить, что каждая цифровая технология имеет двойное применение.
Таким образом, подключение новых устройств к Интернету создает новое глобальное сообщество, под давлением которого, как отмечает Шошана Зубофф, обратная связь ужесточается, устраняя внутренние стремления к достижению какой-либо автономии. Более того, упомянутый поток данных экспоненциально усиливает преимущество так называемого искусственного интеллекта, поскольку он учится на чужих ошибках, мгновенно делится новыми знаниями с другими устройствами/машинами и адаптируется к ним, тогда как со стороны человека обучение или исправление ошибки обычно остается трудоемким и весьма индивидуальным опытом и не всегда приводит к коррекции поведения.
Контекст современных технологических изменений, называемых zетвертой промышленной революцией, также определяет суть и направления дебатов о необходимости реорганизации экономических, социальных и политических систем, определения новых требований к лидерству и новых институциональных рамок, к чему призывал основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе и идеолог глобализма Клаус Шваб в своей книге «Четвертая промышленная революция» [Шваб 2016]. По его мнению, последствия физических (автономные автомобили, 3 D -печать, роботизация, новые материалы), цифровых (Интернет, повсеместные датчики, блокчейн, онлайн-комментарии как инструмент укрепления доверия) или биологических (генная инженерия) мегатрендов заставляют государственных и общественных лидеров убеждать граждан в необходимости внедрения надежных стратегий. Их целью будет улучшение условий жизни и предотвращение социальных беспорядков, массовых миграций или насильственного экстремизма, которые набирают силу и угрожают странам на всех этапах развития. В то же время автор отмечает, что правительства в рамках этого великого проекта модернизации не останутся в своем нынешнем виде. Со временем им придется меняться, поскольку их основная роль в проведении политики постепенно снижается в результате растущего уровня конкуренции, а также перераспределения и децентрализации власти, вызванных новыми технологиями.
В глазах критиков подход, названный «великой перезагрузкой», предложенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), вызывает сомнения, связанные с недемократической легитимностью такого порядка, а также отсутствием четкой ответственности за действия, предпринимаемые в его рамках. В модели взаимодействия с несколькими заинтересованными сторонами корпорации не обслуживают множество заинтересованных сторон, а выдвигаются в ранг признанных заинтересованных сторон в глобальном процессе принятия решений, в то время как правительствам отводится роль одной из многих сторон, что институционализирует сопротивление корпораций навязыванию им эффективных правил как на глобальном уровне, так и на уровне национального законодательства [Катасонов 2023].
Ключевым элементом успеха таких планов считается нестабильная природа человеческих эмоций и социальная поляризация. Они составляют самую суть корпоративной бизнес-модели, основанной на вышеупомянутом поведенческом конструировании стимулов и прогнозировании желаемых реакций. Клаус Шваб также указывает на переосмысление культурной идентичности и семьи, воспринимая биологические/генетические проблемы как вызов для разработки новых социальных норм и правил. По его мнению, непреодолимое вмешательство технологий приведет к нарушению некоторых типично человеческих реакций, таких как способность размышлять о себе, сочувствие и сострадание. Это влияние становится катализатором развития культурного возрождения, ведущего к глобальной цивилизации и новому уровню нравственного сознания.
Такой контекст, в свою очередь, будет способствовать развитию трансгуманизма и связанной с ним концепции трансцендентности. Его реализация приведет к дальнейшему укреплению неравенства и разделению на гибких победителей, которые «понимают историческую необходимость», и вынужденных проигравших. Поэтому вопрос, на который необходимо ответить, заключается в следующем: что или кто в глобализированной экономической и социальной реальности и сетевом управлении, использующем все более передовые технологии, определяет ход времен?
Выводы. Основной вывод исследования – политическая, социальная и экономическая ненейтральность технологических изменений. В условиях растущей сложности знаний и глобальных связей новые решения в одной области сравнительно быстро находят альтернативные применения. С одной стороны, такое положение дел означает установление более всестороннего сотрудничества, рационализацию творческого разрушения, заключающегося в постоянной замене удовлетворительных решений лучшими. Улучшение материальных условий жизни и логика ожидаемых выгод, в свою очередь, укрепляют веру в прогресс. Это опять же формирует оптимизм относительно возможности эффективного решения новых задач.
С другой стороны, новые решения усиливают неравенство, возникающее в результате перераспределения имеющихся благ, что подпитывает системную напряженность и потенциальные конфликты. Трудно игнорировать противоречие между императивами экономической эффективности, политического равенства и культурной самореализации. Возможно ли поэтому изобрести новую институциональную структуру для современного капитализма и глобального режима перед лицом глобализации и связанных с ней последствий, а также растущих технологических дилемм?
Ответ на этот вопрос требует выявления ожиданий и потенциала субъектов, формирующих глобализацию, особенно государств и международных корпораций, источников их потенциального преимущества, способности нести издержки масштабных изменений и сохранять стабильность после их внедрения. Однако если современные технологические изменения приводят к возможности более точного прогнозирования индивидуальных и коллективных моделей поведения, а значительная часть этих знаний формируется в институциональном вакууме, поскольку законодательство не успевает за практикой, то инициатива скорее принадлежит корпоративным структурам.
Таким образом, цифровой капитализм постепенно вытесняет государство, заменяя его сетевой корпоративной гегемонией. Корпорации укрепляют свое влияние и положение, защищая собственные коммерческие секреты (уникальные знания, которые являются ключом к их производственным преимуществам). Их интересы кажутся более однородными по сравнению с интересами государств. Их власть не обязательно подразумевает использование прямого физического принуждения. Все, что необходимо, – это в значительной степени невидимое и тонкое влияние, не позволяющее четко определить ответственность, но в то же время эффективно влияющее на направление желаемых реакций. В структурном измерении властью обладают те, кто обладает знанием и способен полностью или частично ограничить доступ к нему других или установить условия его использования. Однако это не означает, что государственные деятели и связанная с ними политика полностью исчезнут. Они могут оставаться театром кажущейся демократии, лишенным содержания, сосредоточенным на обслуживании эмоций и отвлечении внимания от неважных вопросов. В то же время нельзя исключать, что внутри самих корпораций со временем возникнут настолько разные интересы, что их обострение приведет к использованию новых форм насилия.
Продолжающиеся технологические изменения открыли новые сферы конкуренции, конфликтов, политических и социальных изменений. Прогресс порождает новые неудобства и проблемы. Это подтверждает наблюдение Нила Постмана, что технологическая конкуренция разжигает тотальную войну, и поэтому ее последствия не могут быть ограничены какой-либо четко определенной сферой человеческой деятельности. Форма и содержание международной системы становятся производными от факторов не только политического, но и экономического и технологического характера. Они сформировали относительно устойчивое международное разделение труда, в котором положение и выполняемые задачи являются результатом доступа к новейшим знаниям и сформированной ими логики сравнительных преимуществ, разделяя мир на победителей и проигравших.
Так что же принесет нам будущее? Если сценарии будущего, изложенные в многочисленной научной и научно-популярной литературе, достаточно точно описывают современный мир, то возникает вопрос огромной важности: обладают ли современные общества достаточными компетенциями для обсуждения последствий современной технологической революции? Сопротивление следующей исторической необходимости, которой неизбежно станет цифровизация человека и среды, в которой он живет, требует, как никогда ранее, восстановления и развития критического суждения, самосознания и самостоятельности в принятии решений.