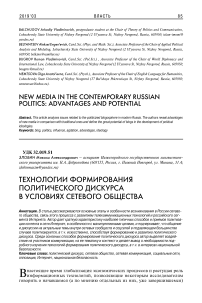Технологии формирования политического дискурса в условиях сетевого общества
Автор: Злобин Максим Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные этапы и особенности возникновения в России сетевого общества, связь этого процесса с развитием телекоммуникационных технологий и российского сегмента Интернета. Автор дает краткую характеристику наиболее типичных способов и приемов политизации контента в сети Интернет, в особенности с манипулятивными целями, и подчеркивает, что общение и дискуссии на актуальные темы внутри сетевых сообществ и соцсетей в подавляющем большинстве случаев политизируется, в т.ч. искусственно, способствуя формированию и развитию политического дискурса. Среди основных способов формирования политического дискурса автор выделяет воздействие на участников коммуникации, на ее тематику и контекст и делает вывод о необходимости подробного изучения технологий формирования политического дискурса, в т.ч. в интересах национальной безопасности.
Политический дискурс, сетевое общество, сетевая коммуникация, социальные сети, оппозиция, интернет, национальная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/170170956
IDR: 170170956 | УДК: 32.019.51 | DOI: 10.31171/vlast.v27i3.6417
Текст научной статьи Технологии формирования политического дискурса в условиях сетевого общества
В настоящее время глобализация экономических процессов и растущая роль информационных технологий, позволяющие некоторым исследователям говорить о начавшемся (а по мнению отдельных из них, уже завершившемся)
переходе от индустриальной эры к информационной, оказывают все более серьезное влияние на социокультурные взаимоотношения между людьми, а также на меж- и внутригосударственные политические отношения. Ключевыми причинами этого становятся снижение необходимости в коллективно-групповой хозяйственной деятельности вследствие развития технологий, индивидуализация труда (фрилансерство), а также совершенствование средств связи, прежде всего электронных СМИ.
В условиях кажущегося ослабления традиционных иерархических отношений в обществе западные философы и социологи начинают опираться на постмодернистскую трактовку общественных отношений как ризомы – совокупности множественных нелинейных связей, в которой каждый индивид занимает свое определенное уникальное место и способен при этом оказывать влияние на всю сеть. Подобная точка зрения вполне соответствует западным представлениям о приоритете отдельно взятого атомизированного индивида по отношению к обществу. Масса индивидов формирует так называемую сетевую структуру, или «децентрализованный комплекс взаимосвязанных узлов, способный расширяться путем включения новых звеньев, что придает сети гибкость и динамичность. В обществе таким коммуникационным узлом является социальный субъект, способный обрабатывать, накапливать и продуцировать новую информацию, а также быть субъектом свободного волеизъявления и действий. В сети не существует постоянных связей между элементами, они образуются только на время решения актуальных задач. Сетевые структуры полицентричны, что не препятствует их целостности. Целостность обеспечивается быстрым эффективным внутрисетевым каналом коммуникации, который позволяет синхронизировать процессы, происходящие в различных частях сети» [Лысак, Косенчук 2015: 49].
Подобная форма социальных отношений не может не повлиять на взаимоотношения между населением и государством. По мнению одного из ключевых теоретиков сетевого общества М. Кастельса, «в сетевом обществе власть больше не контролируется институтами, организациями или символическими лидерами. Она растворена в глобальных сетях финансов, власти, информации и медиа… В политике национальное государство постепенно заменяется государством сетевого типа… основанного на сети политических институтов и органов принятия решений национального, регионального, местного и локального уровней» [Курочкин, Антонов 2016: 15-16].
Наряду с подобным идеализированным представлением о сетевом обществе в других научно-исследовательских парадигмах формируются иные трактовки указанного термина. Речь, прежде всего, идет о результатах изучения взаимоотношений внутри малых социальных групп (географически и/или этнически локализованных общин), а также о процессах, происходящих в ходе электронных коммуникаций. В дальнейшем в ряде случаев отмечается смешение всех трех трактовок, что представляется в определенной степени обоснованным, поскольку речь идет о пересекающихся, но не тождественных социальных множествах.
Представляется, что яркой иллюстрацией этого может служить процесс формирования сетевого общества в России. Исторически для большинства российского населения было характерно осуществление жизнедеятельности и труда в соответствии с принципом коллективизма, предполагавшим приоритет общих интересов над частными. Социальные связи формировались по принципу совместного проживания на определенной территории и осуществления трудовой деятельности. «Общинный уклад русской жизни был закономерным и оправданным результатом культурно-исторического развития России. Русский народ строил свое национальное бытие под влиянием трех обстоятельств: трудных природно-климатических условий, необходимости освоения огромных территорий и постоянных нападений соседних народов... Община создала традиции и формы русской бытовой демократии, в частности, привычку решать проблемы всем “миром”» [Кожевникова 2012: 76].
С развитием в XIX–XX вв. процессов урбанизации и индустриализации происходит распад традиционных коллективов (крестьянской общины или трудовой артели). Появление многоквартирных домов и жилых микрорайонов дополнительно способствует ослаблению социальных связей среди населения (характерный пример – часто встречающееся незнание жителями своих соседей по подъезду).
В этих условиях фактором формирования прочных социальных связей в советский период становятся общие интересы и увлечения, а также политическая активность (в последнем случае имеется в виду, прежде всего, диссидентское движение). В дальнейшем с развитием компьютерных сетей ( FIDO , Интернет) и других современных коммуникационных технологий первыми их пользователями стали именно наиболее активные представители «групп по интересам». В качестве примера можно привести запрещенную в России Национал-большевистскую партию, члены которой еще в 1996 г. создали первые страницы организации в сети Интернет и популяризировали их в партийном издании «Лимонка».
Рубеж нулевых – 2010-х гг. характеризуется существенным расширением российской аудитории Интернета, в т.ч. за счет молодежи, с одновременным развитием форумов, блогосферы и наиболее популярных социальных сетей. Тот факт, что для организации и координации акций протеста 2011–2012 гг. в значительной степени использовались возможности сети Интернет, может служить подтверждением тезиса о более высокой политической активности и мобилизуемости пользователей Интернета по сравнению с рядовыми гражданами. Таким образом, значительную часть сетевого общества как пользователей Интернета, использующих его для коммуникации, составило сетевое общество как совокупность политически и социально активных лиц, не объединенных в рамках какой-либо формальной структуры.
В настоящее время мы наблюдаем следующий этап расширения сетевого общества во всех указанных выше смыслах термина. Этот этап характеризуется дальнейшим расширением аудитории Интернета за счет повсеместного распространения мобильных устройств, роста популярности мессенджеров и, как следствие, практически неограниченной возможности передачи любых видов контента через мобильные сети. В качестве нового элемента можно отметить тенденцию к объединению пользователей по признаку проживания на определенной территории или принадлежности к некоторому профессиональному сообществу. Наряду с созданием тематических сообществ в социальных сетях (наиболее распространены заголовки «Типичный…», «Подслушано…» и т.п.) возникают так называемые городские форумы и сервисы, например такие, как Яндекс.Район. При этом по мере того, как пользователи указанных сервисов инициируют обсуждение актуальных для того или иного сообщества проблем (изменение порядка обращения с ТКО, маршрутных сетей общественного транспорта и т.п.), это обсуждение, как правило, приобретает политическую тематику, зачастую имеющую критический характер по отношению к деятельности органов власти различных уровней.
Таким образом, сетевое общество (в различных его пониманиях, которые в данном случае в значительной степени совпадают) начинает участвовать в формировании политического дискурса, также понимаемого в широком смысле слова – как контекстуально и идейно направленная коммуникация, связанная с реализацией политически мотивированных интересов различных социальных групп или общества в целом.
Исследователи политического дискурса отмечают в качестве его основных свойств идеологичность и манипулятивность [Карамова 2013: 39], т.е. речь идет не просто об обсуждении бытовых или социальных проблем в политическом контексте, но о намерении воздействовать на оппонента с целью сформировать у него выгодное для себя мнение, побудить к определенным действиям или бездействию (зачастую помимо его желания, посредством манипуляции). Соответствующие приемы, тактики и стратегии воздействия достаточно хорошо изучены и описаны. Для нас имеет первоочередное значение тот факт, что политический дискурс становится коммуникативным пространством, объединяющим указанные приемы и тактики и определяющим особенности и выбор их применения. Более того, они становятся средством реализации технологий более высокого уровня – технологий формирования самого политического дискурса с целью воздействия на объективную реальность.
Возможность такого воздействия отмечают многие отечественные и зарубежные исследователи. По мнению профессора Чжэцзянского университета (КНР) Ши Сю, «дискурс – это не только то, что люди говорят, но также то, что они делают путем произнесения чего-либо» [Shi-xu 2005: 21]. Такая трактовка позволяет говорить о дискурсе как об инструменте, с помощью которого осуществляется воздействие на реальность. Ши Сю определяет дискурс как «конструирование смысла с помощью (преимущественно) лингвистических символов в конкретном культурном контексте» [Shi-xu 2005: 19]. В дальнейшем символы претворяются в реальность через речевые практики; речь тем самым приравнивается к социальному действию [Бажалкина 2016: 159]. Посредством речевых практик осуществляется влияние как на отдельных индивидов, так и на социальные группы, а тем самым в ряде случаев – и на общественно-политическую обстановку в целом.
Особенности различных типов дискурса и, как следствие, специфика их влияния на действительность определяются, прежде всего, сочетанием таких компонентов дискурса, как его субъекты, тематика и контекст (понимаемые в узком смысле как коммуникативная ситуация, в широком – как разделяемая участниками дискурса совокупность знаний, представлений и оценок). Формирование дискурса осуществляется путем изменения или добавления перечисленных компонентов. Особенности функционирования сетевого общества оказывают на этот процесс специфическое влияние.
Развитие политического дискурса в Рунете начиналось с создания сайтов политических партий и наиболее популярных печатных изданий. Его основными субъектами, таким образом, на тот момент являлись лидеры партий и популярные публицисты. С распространением блогов и персональных сайтов (при одновременном увеличении числа пользователей Интернета), а также возможности комментирования публикаций перечень субъектов политического дискурса начал существенно расширяться. В настоящее время практически любой пользователь имеет возможность высказаться на политические темы. Характерно, что топикстартер далеко не всегда может иметь целью инициировать политическую дискуссию – его намерением может быть просто жалоба или выражение негативного отношения, что нельзя рассматривать как компонент политического дискурса. Однако в дальнейшем в результате целенаправленных действий в рамках какой-либо известной коммуникативной или манипуляционной стратегии осуществляется поворот обсуждения в нужное русло.
Особой технологией формирования политического дискурса, носящей ярко выраженный идеологизированный и манипулятивный характер, становится создание фальшивых интернет-персонажей, от имени которых ведутся блоги и размещаются комментарии. Среди наиболее известных примеров деятельности такого рода – комментарий от имени «крымчанки, жены офицера» и твиттер-аккаунт «Баны из Алеппо».
Кроме того, необходимо отдельно отметить влияние на формирование политического дискурса блогов политических лидеров, а также официальных представителей внешнеполитических и иных ведомств. Уже привычной стала манера Д. Трампа объявлять о важных внешнеполитических решениях через Твиттер. Во время нахождения Д.А. Медведева на посту президента РФ он также активно использовал твиттер-аккаунты для взаимодействия с пользователями Интернета, благодаря чему возникли пародийные страницы, имевшие едва ли не большую популярность, чем оригинал.
Наиболее обширные возможности формирования политического дискурса предоставляет воздействие на контекст. В упрощенном понимании контекст – это то, что позволяет участникам коммуникации понимать друг друга, т.е. вся полнота информации о ситуации общения, совокупность общепринятых смыслов и понятий. По Т. ван Дейку, «контекст включает такие категории, как время, место, обстоятельства, события, участники и их социальные, профессиональные и коммуникативные роли… а также текущее состояние сферы познания (цели, знания, мнения, эмоции и др.)» [Van Dijk 2002: 215]. Именно в этой области преобладает применение разного рода манипулятивных технологий (искажение информации, формирование негативного образа оппонента, инспирирование страха и других эмоциональных реакций и т.п.). Зачастую в рамках одной публикации может решаться несколько задач. Практически мгновенное «вирусное» распространение информации в сети Интернет позволяет манипуляторам максимально расширить влияние (в соответствии с теорией Бурдье о социальном поле, событие в одном месте которого мгновенно меняет ситуацию во всех остальных местах).
Наряду с изложенным, применительно к социальным сетям представляет интерес использование для создания контекста хэштегов – ключевых слов и выражений, облегчающих поиск сообщений по теме или содержанию. Помимо основной функции, хэштеги активно применяются для привнесения дополнительного смысла в сообщения (выражение эмоций и пр.). Различными политическими силами практикуется внедрение в оборот тех или иных хэштегов, несущих необходимую эмоциональную или смысловую нагрузку (например, запуск хэштега « #надоел » активистами нежелательной организации «Открытая Россия» перед президентскими выборами 2018 г.). При одновременном использовании нескольких хэштегов их совокупность может способствовать формированию (в т.ч. неосознанному) у пользователя соответствующих ассоциаций, влияя на его восприятие информации.
Как способ изменения привычного контекста можно рассматривать также череду получивших негативный резонанс в 2018 г. заявлений чиновников различного уровня (слова бывшего министра труда и занятости Саратовской области Н. Соколовой о прожиточном минимуме в 3 500 руб. или высказывание бывшего департамента молодежной политики администрации Свердловской области О. Глацких: «Государство не просило вас рожать»). С одной стороны, данные высказывания, получая моментальное распространение в сети, в дальнейшем обретают статус «прецедентных текстов», с опорой на которые транслируется негативное отношение к органам власти и управления. С другой стороны, они могут свидетельствовать о распространяющемся среди чиновниче- ства мнении о необходимости уменьшения социальных обязательств государства и постепенного приучения к этой мысли широких слоев населения.
Вместе с тем необходимо отметить, что не всегда взаимодействие власти и сетевых структур общества носит деструктивный (манипулятивный) характер. Имеются примеры положительной коммуникации, разрешения актуальных проблем посредством интернет-порталов и через обращения гражданских активистов. Например, упоминавшийся ранее городской форум nn.ru используется в т.ч. для доведения до администрации г. Нижнего Новгорода информации о проблемных моментах в городском хозяйстве и получения обратной связи. Кроме того, руководство областного центра запустило портал «Наш Нижний», позволяющий населению оперативно сигнализировать об отключениях и перебоях в сфере ЖКХ. Его особенность – оно лишено манипулятивного компонента, нацелено на реальное решение проблем, потому и конструктивно.
Таким образом, сетевые коммуникации обладают специфическими чертами, позволяющими формировать политический дискурс на различных уровнях, вплоть до побуждения членов сетевого общества к активным действиям. Данные процессы нуждаются в более подробном изучении, в т.ч. с правовой и политологической точек зрения (в настоящее время наиболее исследованным является их лингвистический аспект). Это позволит своевременно выявлять негативные тенденции, формально не носящие криминальный характер, но способные оказывать деструктивное влияние на состояние национальной безопасности.
Список литературы Технологии формирования политического дискурса в условиях сетевого общества
- Бажалкина Н.С. 2016. К проблеме различных подходов к пониманию дискурса в современном языкознании. - Вестник Кемеровского государственного университета. № 1. С. 156-160.
- Карамова А.А. 2013. Современный политический дискурс: конец XX - начало XXI вв.: дис. … д.филол.н. Уфа. 411 с
- Кожевникова Т.М. 2012. К вопросу о природе русского коллективизма. - Социально-экономические явления и процессы. № 2(036). С. 75-77
- Курочкин А.В., Антонов Г.К. 2016. Концепция сетевого общества в системе социального знания. - Общество: социология, психология, педагогика. Вып. 12. С. 14-17. Доступ: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/12/sociology/kurochkin-antonov.pdf (проверено 04.05.2019)
- Лысак И.В., Косенчук Л.Ф. 2015. Современное общество как общество сетевых структур. - Информационное общество. № 2-3. С. 45-51
- Shi-xu. 2005. A Cultural Approach to Discourse. N.Y.: Palgrave McMillan. 233 p
- Van Dijk T.A. 2002. Political Discourse and Political Cognition. - Politics as Text and Talk. Analytical Approaches to Political Discourse (ed. by P.A. Chilton, Ch. Schäffner). Amsterdam: Benjamins. P. 204-236. URL: http://www.discourses.org/OldArticles/Political discourse and political cognition.pdf (accessed 16.02.2019)