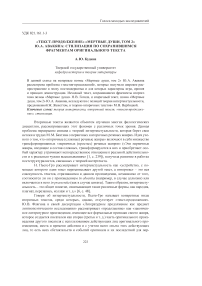"Текст-продолжение" "Мертвые души, том 2" Ю. А. Авакяна: стилизация по сохранившимся фрагментам оригинального текста
Автор: Кудина Анастасия Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на материале поэмы «Мертвые души, том 2» Ю. А. Авакяна рассмотрена проблема «текстов-продолжений», которые получили широкое распространение в эпоху постмодернизма и для которых характерны игра, ирония и принцип деконструкции. Исходный текст, сохранившиеся фрагменты второго тома поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя, и вторичный текст, поэма «Мертвые души, том 2» Ю. А. Авакяна, исследуются с позиций теории интертекстуальности, предложенной Ж. Женеттом, и теории «вторичных текстов» М. В. Вербицкой.
Теория интертекста, вторичный текст, "текст-продолжение", стилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/146281495
IDR: 146281495 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи "Текст-продолжение" "Мертвые души, том 2" Ю. А. Авакяна: стилизация по сохранившимся фрагментам оригинального текста
Вторичные тексты являются объектом изучения многих филологических дисциплин, рассматривающих этот феномен с различных точек зрения. Данная проблема неразрывно связана с теорией интертекстуальности, которая берет свои истоки в трудах М. М. Бахтина о первичных и вторичных речевых жанрах. Идея ученого о том, что «вторичные (сложные) речевые жанры» включают в себя множество трансформированных «первичных (простых) речевых жанров» («Эти первичные жанры, входящие в состав сложных, трансформируются в них и приобретают особый характер: утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к реальным чужим высказываниям» [1, с. 239]), получила развитие в работах постструктуралистов, связанных с теорией интертекста.
-
Н. Пьеге-Гро рассматривает интертекстуальность как «устройство, с помощью которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст – это вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от того, соотносится ли он с произведением in absentia (например, в случае аллюзии) или включается в него in praesentia (как в случае цитаты). Таким образом, интертекстуальность – это общее понятие, охватывающее такие различные формы, как пародия, плагиат, перезапись, коллаж и т. д.» [6, с. 48].
Говоря об интертекстуальности, Пьеге-Гро называет конкретные виды вторичных текстов, среди которых, однако, отсутствует «текст-продолжение». Ю. В. Флягина в своей диссертации «Литературное продолжение как предмет лингвопоэтического исследования» рассматривает «продолжение» как «законченное литературное произведение, имеющее все формальные признаки своего жанра, которое создается писателем как вторая (третья и т. д.) часть оригинального произведения другого писателя с использованием действующих лиц оригинального произведения, места и времени действия и с учетом всего опыта этих действующих лиц, то есть всех обстоятельств и событий оригинала и их последствий для пер- сонажа. Таким образом, продолжение является лишь разновидностью того, что в западной традиции получило название “sequel”» [9, с. 3].
Определение, данное Флягиной, на наш взгляд, является не совсем точным, поскольку проанализированные нами «тексты-продолжения» не всегда заимствуют жанр оригинального произведения. Так, Б. Акунин в «тексте-продолжении» А. П. Чехова «Чайка» осуществляет эксперимент с жанрами: возвращается от новой драмы (со свойственной ей идеей ансамблевости [8]) к классической (с одним главным персонажем), выводя на первый план фигуру Дорна, выполняющего функции сыщика. В «тексте-продолжении» «Та самая Татьяна» А. и С. Литвиновых не заимствуется даже форма: авторы уходят от стихотворного способа изложения, а также от жанра, обозначенного А. С. Пушкиным как «роман в стихах», трансформируя его в жанр классического детектива, написанного в прозе.
На наш взгляд, «текст-продолжение» – это вторичный текст, являющийся продолжением исходного текста, который стал прецедентным для культуры в целом и известным большинству ее носителей. Важной особенностью «текста-продолжения» является смена автора. «Текст-продолжение» может иметь свойства и других вторичных текстов: в нем может, как в стилизации, имитироваться стиль автора исходного текста; также он может быть построен на основе литературной игры, представляя различные варианты завершения оригинального произведения, и др.
«Мертвые души, том 2» Ю. А. Авакяна является продолжением поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», причем продолжением, воссозданным на основе оригинальных глав и из фрагментов утерянного второго тома поэмы. Авакян подчеркивает, что текст, написанный им в 1994 году, неразрывно связан с оригинальным, указывает в качестве соавтора Н. В. Гоголя и выносит его имя в заглавие своего произведения: «Мертвые души. Том второй, написанный Николаем Васильевичем Гоголем, им же сожженный, вновь воссозданный Юрием Арамовичем Авакяном и включающий полный текст глав, счастливо избежавших пламени» [5].
Если обратиться к данному «тексту-продолжению» с позиций теории интертекстуальности Ж. Женетта, в нем можно найти все типы межтекстовых связей, указанные исследователем в труде «Палимпсесты» [10].
Женетт создал классификацию межтекстовых связей и выделил пять типов транстекстуальности: интертекстуальность как присутствие одного текста в другом (цитата, аллюзия и т. п.); паратекстуальность (связь текста со своим паратекстом: предисловия, предуведомления, иллюстрации и т. п.); метатекстуальность (связь комментария и комментируемого им текста); архитекстуальность (связь текста с типом дискурса (жанра), которому он принадлежит); гипертекстуальность, «транстекстуальность par excellence» (данные отношения связывают текст с предшествующим ему текстом и отличаются от отношений текста-комментария с комментируемым им текстом) [6, с. 54–55].
Уже в самом начале второго тома «Мертвых душ» Авакян вводит паратекст – обращение к читателю, в котором сообщает об обстоятельствах появления данного текста, а также о цели, которую преследует автор: «…перед нами стояла необыкновенно сложная задача – воссоздать текст второго тома “Мертвых душ”, бережно сохраняя и стиль, и язык автора бессмертного произведения; максимально используя фрагменты оригинального текста, те, что сохранило для нас Провидение и опираясь, сколько возможно, на воспоминания друзей Николая Васильевича Гоголя» [5].
Внутри паратекста имеются указания на то, что автор при написании продолжения «Мертвых душ» использовал воспоминания друзей, а также другие до- ступные ему источники, что, по классификации Женетта, представляет собой мета-текстуальные межтекстовые связи.
Архитекстуальность проявляется в заимствовании Авакяном жанра оригинального произведения. Н. В. Гоголь выбирает поэму в качестве авторского жанрового определения для «Мертвых душ». Следуя за автором оригинального текста, Авакян написанный им «текст-продолжение» обозначает как «поэму». И это не случайно: в «тексте-продолжении» Авакян пытается следовать общему тону повествования, заданному Гоголем. После публикации «Мертвых душ» Гоголь работал над «Учебной книгой словесности для русского юношества» (ок. 1844–1846 гг.), в которой пишет о том, что повесть можно считать поэмой при определенных условиях: «…Повесть <…> может быть совершенно поэтическою и получает название поэмы, если происшествие, случившиеся само по себе, имеет что-то поэтическое; или же придано ему поэтическое выражение отдаленностью времени, в которое оно случилось; или же сам поэт взял его с той поэтической стороны, с какой может взять только поэт» [4, с. 408]. Авакян сохраняет образ автора-повествователя: в новых главах присутствуют обширные лирические отступления, являющиеся одной из наиболее ярких особенностей оригинального текста.
Интертекстуальность как присутствие одного текста в другом лежит в основе «текста-продолжения», написанного Авакяном. Автор не только заимствует обстоятельства, пространство и время, персонажей из оригинального текста, пытается воссоздать логику их развития, но и включает в свой текст очень объемный массив текста, написанного не им, а Гоголем. В продолжение «Мертвых душ» включены первая, третья главы и фрагменты второй, четвертой и заключительной глав второго тома «Мертвых душ» Гоголя. Таким образом, включение глав оригинального текста в «текст-продолжение» является примером прямого цитирования. Стоит отметить, что все дальнейшее «дописывание» Авакяном является «воссозданием» утраченного текста, с попыткой сохранения авторского стиля Гоголя.
М. В. Вербицкая ввела в научный обиход термин вторичный текст применительно к имитационным текстам, к которым она относит пародию, стилизацию, перифраз. В своей диссертации она рассматривает пять параметров, по которым различаются вторичные тексты: предмет, объект изображения, на который направлена авторская идейно-эмоциональная оценка; характер этой идейно-эмоциональной оценки; отношение к используемой образно-стилистической системе, к протослову; творческий замысел автора вторичного текста, причины использования «чужого стиля»; просодия [2, с. 9]. На их основе исследователь выделяет три основные разновидности вторичного текста: пародию, перифраз и стилизацию.
В соответствии с критериями, предложенными Вербицкой, второй том «Мертвых душ» Ю. А. Авакяна следует считать стилизацией, так как данный «текст-продолжение» ориентирован на воспроизведение «чужого стиля» как основного предмета изображения. Авакян создает новый текст таким образом, что границы между оригинальным текстом Гоголя и новым текстом становятся практически незаметны: включение первых четырех глав и дописывание утраченных в них фрагментов происходит вполне органично, без нарушения повествовательной линии автора прецедентного текста.
Более свободно Авакян распоряжается сохранившимся оригинальным текстом в заключительной главе. С одной стороны, это происходит потому, что утрачены достаточно большие фрагменты поэмы Гоголя. С другой стороны, Авакян выстраивает повествование в соответствии со своей сюжетной линией и «пере- краивает» текст Гоголя. Например, «Одна из последних глав» второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя дошла до нас в двух редакциях. В позднейшей редакции [3, с. 5–126] в начале главы имеется лирическое отступление, начинающееся со слов: «Все на свете обделывает свои дела» [Там же, с. 112], за которым следует сцена с покупкой Чичиковым сукна на ярмарке:
«– Есть сукна брусничных цветов с искрой? – спросил Чичиков.
– Отличные сукна, – сказал купец, приподнимая одной рукой картуз, а другой указывая на лавку.
Чичиков взошел в лавку. Ловко приподнял <купец> доску стола и очутился на другой стороне его, спиною к товарам, вознесенным от низу до потолка, штука на штуке, и – лицом к покупателю. Опершись ловко обеими руками и слегка покачиваясь на них всем корпусом, произнес:
– Каких сукон пожелаете?
– С искрой оливковых или бутылочных, приближающих<ся>, так сказать, к бруснике, – сказал Чичиков» [Там же, с. 114].
После покупки сукна Чичиков встречает Федора Федоровича Леницына.
В более ранней редакции [Там же, с. 127–259] лирическое отступление отсутствует, а глава начинается с разговора Чичикова с Алексеем Ивановичем Лени-цыным о завещании со слов: «В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, торговался с заезжим контрабандистом-купцом <…> вошел его превосходительство Алексей Иванович Леницын» [Там же, с. 234], после которого представлен эпизод с выбором сукна на «ярманке в городе Тьфусла-вле»:
«Чичиков вошел в лавку.
– Покажите-ка мне, любезнейший, суконца.
Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывающуюся доску стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и лицом к покупателю. Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнаженной головою и шляпой на отлете, еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так:
– Какого рода сукон-с, английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?
– Отечественной фабрикации, – сказал Чичиков, – но только именно лучшего сорта, который называется аглицким,
– Каких цветов пожелаете иметь? – вопросил купец, все так<же> приятно колеблясь на двух упершихся руках.
– Цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике, – сказал Чичиков» [Там же, с. 238].
В тексте Авакяна происходит контаминация двух редакций заключительной главы, предложенных Н. В. Гоголем: в «тексте–продолжении» начало главы совпадает с началом главы позднейшей редакции прецедентного текста, после приводится эпизод из ранней редакции:
«Всё на свете обделывает свои дела. <…>
В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом <…> вошёл его превосходительство Фёдор Фёдорович Леницын» [5].
Далее следует разговор о наследстве, причем собеседник Чичикова назван не Алексеем Ивановичем, а Федором Федоровичем Леницыным (так Гоголь назвал
Леницына в позднейшей редакции). После разговора представлена сцена с выбором сукна, являющаяся цитатой из ранней редакции второго тома поэмы.
Наличие двух редакций сохранившихся фрагментов второго тома «Мертвых душ» Гоголя позволяет Авакяну использовать особую технику письма. Н. В. Семенова в своей монографии, затрагивая проблему анаморфоза, в качестве примера приводит роман Мишеля Бютора «6810000 л воды ежесекундно», в котором анаморфозом выступает текст из «Аталы» Шатобриана. М. Бютор в интервью определил принцип новой техники письма следующим образом: «Я вынужден просить некоторым образом (Шатобриана. – Н. С.) <…> разрешения использовать его текст, но не как цитату, а как первичный материал. К счастью для меня, имеются две версии этого описания. Это текст, который имеет две формы, это текст, который, как следствие, имеет уже игру в себе самом» [7, с. 170].
Именно такой способ письма мы наблюдаем в приведенном нами примере, что позволяет считать «Мертвые души, том 2» Авакяна постмодернистским текстом, в основе которого лежат принцип деконструкции и постмодернистская игра.
Благодаря двум сохранившемся редакциям и возможности их комбинирования Авакян пытается наиболее точно, насколько это возможно, следовать стилю прецедентного текста. Необходимо также отметить, что многие исследователи в качестве основной стилевой доминаты «Мертвых душ» называют описательность, которая вызвана тем, что Гоголь ставил своей задачей нарисовать, по его словам, «образ много». В «тексте-продолжении» описательность является достаточно сильной стилевой доминантой: автор пытается погрузиться в описываемую историческую эпоху, так же, как Гоголь, изображает не только отдельные лица и их судьбы, но в многообразных лирических отступлениях занят рассуждениями об исторической судьбе России, национальном характере, особенностях культурно-бытового уклада.
Пятым видом межтекстовых связей Женетт называет гипертекстуальнсть, или «транстекстуальность par excellence». Под гипертекстуальностью Женетт понимает всякое отношение, которое связывает текст с предшествующим ему текстом, производным от которого он становится. В «Палимпсестах» Женетт предлагает классифицировать различные гипертекстовые феномены в соответствии с выделенными им критериями: характером связи, которой могут быть, как в нашем примере, имитация гипотекста, а также с ее модальностью [10, с. 55].
Таким образом, можно сделать вывод, что в «тексте-продолжении» «Мертвые души, том 2» присутствуют все виды межтекстовых связей, предложенных Ж. Женеттом, которые при этом подчинены общей авторской задаче создания стилизации. Все типы межтекстовых связей, имеющихся во вторичном «тексте-продолжении» Ю. А. Авакяна, служат для того, чтобы «текст-продолжение» стал наиболее близок к оригиналу и воспринимался читателем как продолжение поэмы «Мертвые души», написанной Н. В. Гоголем.
Список литературы "Текст-продолжение" "Мертвые души, том 2" Ю. А. Авакяна: стилизация по сохранившимся фрагментам оригинального текста
- Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237-280.
- Вербицкая М. В. Теория вторичных текстов: На материале современного английского языка: Автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04 / М. В. Вербицкая; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2000. 47 с.
- Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М.: Правда, 1984. 318 с.
- Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М.: Правда, 1984. 528 с.
- Гоголь Н. В., Авакян Ю. А. Мертвые души, том 2 [Электронный ресурс] // Журнал «Самиздат». URL: http://samlib.ru/a/awakjan_j_a/deadsouls2.shtml (дата обращения: 15.07.2019).
- Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.
- Семенова Н. В. Цитата в художественной прозе (На материале произведений В. Набокова): Монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. 200 с.
- Фадеева Н. И. Новаторство драматургии А. П. Чехова: пособие по спецкурсу. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1991. 83 с.
- Флягина Ю. В. Литературное продолжение как предмет лингвопоэтического исследования: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Ю. В. Флягина; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2000. 31 с.
- Genette G. Palimpsestes: La litterature au second degre. Paris, 1982. 480 p.