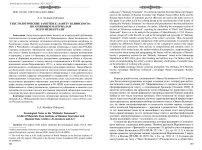Текстологические заметки к "Завету Белинского": по архивным материалам из РО ИРЛИ и РГАЛИ
Автор: Холиков Алексей Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи продолжает начатое им в предыдущей публикации текстологическое изучение работы Д.С. Мережковского «Завет Белинского». На этот раз в качестве основных источников используются архивные материалы из Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского Дома) (ИРЛИ РАН) и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Стремясь восполнить имеющуюся лакуну в реконструкции истории становления текста «Завета Белинского» от устного выступления к первым публикациям в периодике, а затем и к брошюре, исследователь вслед за газетным вариантом текста в «Биржевых ведомостях», репортажами хроникеров в «Речи» и «Русских ведомостях» привлекает к своему анализу сохранившуюся в РГАЛИ программу московской лекции Мережковского 1915 г., а также автограф и машинопись «Завета Белинского», содержащую несколько слоев правки писателя. Таким образом, в публикуемой статье осуществляется текстологическое сравнение архивных материалов, комментируются и объясняются обнаруженные в ходе сравнительного анализа отличия (характер зачеркиваний и исправлений: от стилистических до композиционных и смысловых). В заключение своих текстологических заметок исследователь расширяет перспективу, дополняя разговор о машинописи и автографе лекции указанием на хранящиеся в РО ИРЛИ подготовительные выписки Мережковского к «Завету Белинского», приводит их рубрикацию и намечает пути дальнейшего изучения в аспекте постижения творческой лаборатории писателя и уточнения научных представлений о принципах его работы с источниками.
Текстология, литературная критика, публицистика, в.г. белинский, д.с. мережковский, газета
Короткий адрес: https://sciup.org/149136579
IDR: 149136579 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00043
Текст научной статьи Текстологические заметки к "Завету Белинского": по архивным материалам из РО ИРЛИ и РГАЛИ
В предыдущей статье, посвященной «Завету Белинского» (1915), нами уже была реконструирована история создания этого литературно-публицистического выступления Д.С. Мережковского от лекции к окончательно сформировавшемуся тексту в одноименной брошюре [Холиков 2020]. В качестве источников мы привлекли тогда собранные по периодике и преимущественно не переиздававшиеся материалы времен Первой мировой войны (в том числе газетные хроники). Они позволили не только произвести текстологический анализ, изучить характер авторской правки и привести аргументы, касающиеся выбора основного текста «Завета Белинского», но также систематизировать и осмыслить отклики первых слушателей и читателей Мережковского - критиков и рецензентов. Несмотря на то что намеченные нами пути дальнейшего изучения этого выступления были ориентированы на его метатекстовые связи и автобиографический подтекст, нереализованным осталось исследование архивных материалов. Задача настоящей статьи - восполнить эту лакуну.
Сегодня мы располагаем сведениями, которые расширяют и детализируют выводы, сделанные нами ранее. Помимо расписки Мережковского в книгоиздательство «Прометей» о получении 135 рублей в счет гонорара за книгу «Завет Белинского» [РГАЛИ. Ф. 327. Он. 1. Ед. хр. 10. Л. 1] в том же архиве хранится программа лекции, прочитанной Мережковским 5 марта 1915 г. в Москве [РГАЛИ. Ф. 2679. On. 1. Ед. хр. 1203. Л. 1]. Согласно ей, выступление на тему «“Завет Белинского” (Религиозность и обществен-

ность русской интеллигенции)» состоялось в новой Большой аудитории Политехнического музея (начало - в 20:00, ответственный устроитель -П.П. Клименко). Здесь же приведены тезисы лекции. Ввиду важности и труднодоступности этого документа воспроизведем их целиком:
«Приговор Достоевского над Белинским. Лучший ответ на вопрос, что такое Белинский, дают его письма.
Аскетизм Белинского. Внешний аскетический облик. Физическая беспомощность, неприспособленность к миру. “Я человек не от мира сего”. Аскетические черты из жизни Белинского. Отречение от отца и матери. Нищета - “бессребрен-ность”. Отношение к женщинам. Писательство < > “мученичество”. Аскетизм в “разрушении эстетики”.
Бессознательное подвижническое христианство - русская суть Белинского. Не поняв этого, Достоевский ничего не понял в Белинском.
Мнимый атеизм Белинского - действительная жажда Бога. Бессознательная религиозная стихия при отсутствии религиозного сознания.
Трагическое противоречие между стихией религиозной и общественной. “Вечная движимость”, “неистовство Белинского”. “Виссарион неистовый”. Мысль, как страсть и страдание. Кажущаяся жизнь ума - действительная жизнь сердца.
Все сознательное мышление Белинского - бессознательные поиски веры. Три мысли, три веры: Бог, человечество, человек. Белинский не сумел замкнуть круг своего сознания, соединить три мысли, три веры в одну.
Раздвоение сознания от раздвоения чувства и воли. Как бы двое Белинских: “Виссарион смиренный” и “Виссарион неистовый”. Один в стихии религиозной, другой в общественной.
Неизбежное, при полном сознании, соединение этих двух стихий. Религиозное сознание Белинского незаконченно и двойственно. Глубина и цельность религиозной жизни бессознательной. Спор Достоевского с Белинским. Правда Достоевского в личности. Правда Белинского в общественности.
Спор в самом Белинском двух начал <:> религиозно-личного и общественного, Виссариона Смиренного и Виссариона неистового. Примирение этих двух начал - завет Белинского».
С приведенным текстом этой программы дословно совпадают некоторые пассажи, примыкающие к автографу лекции [см.: РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 49-50].
О московском выступлении Мережковского сообщили «Русские ведомости». По словам анонимного хроникера, «аудитория была переполнена, и лектора встретили и проводили дружными аплодисментами» [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4]. Судя по этому отчету, Мережковский не отступал от заявленного в программе плана, но читатель газеты имел возможность ощутить зримую связь между обращением к Белинскому и злобой дня (неочевидную при знакомстве с программой). В частности, отмечалось, что «тема лекции - русская интеллигенция, задача лекции -

ответить на вопрос, существует ли русская интеллигенция, как связанная с народом духовная сила, представляет ли она собой подлинную выразительницу русского народного сознания и русской народной совести» [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4]. И далее - актуальное: «В последнее десятилетие это часто отрицают; особенно горячо нападали на интеллигенцию “веховцы”, -ив этом они - ученики Достоевского, который учил, что безбожная интеллигенция не может быть представительницей народа-богоносца» [Лекция Д.С. Мережковского 1915, 4]. Еще острее социальная проблематика будет выражена в первой публикации «Завета Белинского» в двух утренних выпусках газеты «Биржевые ведомости» за 1915 г. [см.: Мережковский 1915 а; Мережковский 1915 Ь], и своего максимума она достигнет в появившейся следом одноименной брошюре, о чем нам уже приходилось писать. Впрочем, градация эта ощущается только при знакомстве с печатными источниками. Для слушателей лекции ее общественно-политический пафос, как мы вскоре убедимся, мог раскрыться сразу и во всей полноте.
Напомним, что в конце февраля Мережковский с успехом прочел эту же лекцию в Петербурге (см. отчет в «Речи»: [Д.С. Мережковский о «завете Белинского» 1915, 5]). Очевидно, что оба выступления в основе своей имели один и тот же текст, машинопись которого хранится в РО ИРЛИ. На первом, отдельном листе указано название - «Завет Белинского». Ниже рукой автора в скобках вписан подзаголовок «Религиозность и общественность русской интеллигенции» и жанровое определение - «Публичная лекция». На следующей странице название повторяется (но вместо подзаголовка, тоже в скобках и такими же чернилами, - «Лекция»), Наконец, перед основным текстом название сопровождается набранным на машинке подзаголовком «Публичная лекция» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 1-3]. В репортаже «Речи» лекция не имеет того подзаголовка, который зафиксирован в московской программе и сохранился при дальнейшей публикации, - «Религиозность и общественность русской интеллигенции». Репортер лишь указал на то, что «лектор начал с извинения», и прямо процитировал Мережковского: «Я знаю, как трудно отвлечь внимание от великих событий, которые теперь происходят. Но тема моей лекции - о религиозности и общественности русской интеллигенции - не так далека от этих событий, как это кажется» [Д.С. Мережковский о «завете Белинского» 1915, 5]. В машинописи автора преамбула звучит так: «Прежде чем приступить к лекции, я должен извиниться. Мучительно-трудно отвлекать внимание от великих событий, которые сейчас происходят. Если я все-таки решаюсь на это, то потому что лишен возможности говорить об этих событиях, а также потому что надеюсь отвлечь от них ваше внимание не так далеко, как это может казаться» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 3]. И здесь же: «Моя тема - русская интеллигенция» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 3], после чего - пассаж, полностью совпадающий с началом опубликованного текста «Завета Белинского», переданный «Речью» в сокращении.
Обращение к сохранившемуся в РО ИРЛИ автографу лекции Мережковского подтверждает, что машинопись была сделана с него. Сравнение архивных материалов выявляет преимущественно стилистическую правку автора и некоторые перестановки цитат. Сюда же следует отнести отдельные зачеркивания (заключены нами в квадратные скобки). Вероятно, автор посчитал избыточным завершение своего высказывания о Достоевском: «Ведь главное дело всей жизни его, завет, его - покаяние во грехах интеллигенции, борьба с интеллигенцией[, с русским освобождением, потому что эти два понятия - интеллигенция и освобождение для Достоевского сливались в одно]» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 4]. Аналогичный пример: «Ведь, опять-таки на примере Белинского мы видели, что наша совесть вся насквозь религиозная, христианская[, а нате сознание в невыносимом противоречии с нашею совестью]» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 8] (вычеркнуто красным карандашом; в обоих случаях цитируется автограф с преамбулой и концовкой лекции, имеющий отдельную нумерацию). Мережковский снимает лишние, с его точки зрения, комментарии и перечисления: «Вот когда начал “поститься”, “подвижничать ”. [Это как будто из “жития иноческаго ”]» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 9]; «Не чувство ли пола и вообще плоти, как неразложимое чувство греха[, тлена, скверны, “жала сатаны ”] - физиологический корень “монашества”?» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 12] (оба раза - чернилами). Сюда же - вычеркнутый синим карандашом риторический вопрос «Не похоже ли это на монашескую исповедь?» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 11-12] после цитаты из Белинского: «Мне кажется, я влюблен страстно во все что носит юбку. При виде женщины или промелькнувшего женского платья, я уже не краснею, но бледнею, дрожу и чувствую головокружение» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 11]. Отсутствие более серьезных отличий позволяет нам в дальнейшем апеллировать к машинописному варианту лекции Мережковского. Сопоставительный анализ появившихся отчетов о ней с первой публикацией в «Биржевых ведомостях» привел к тому, что газетный текст отличался от устного выступления прежде всего стилистически (если не считать вводных «извинений» лектора перед слушателями, опущенных при публикации). Обращение к автографу и машинописи лишний раз подтверждает это, но вместе с тем вынуждает сделать ряд существенных с текстологической точки зрения уточнений.
Правка Мережковского в машинопись вносилась, по всей вероятности, в разное время. Характер зачеркиваний и исправлений позволяет предположить, что сначала она делалась чернилами и красным карандашом, а уже после - синим и простым. В свою очередь, сравнение первой публикации с брошюрой убеждает, что коррективы на уровне машинописи предназначались для подготовки газетного варианта текста, а не отдельного его издания.
Ориентацию на печатное слово выдают графические исправления: то, что в машинописи подчеркнуто от руки, в публикации почти всегда 188
набрано вразрядку; отмечены дополнительные абзацные отступы; кроме того, сместилась нумерация первой части. Автор простым карандашом зачеркнул римскую цифру «I», стоявшую перед цитатой из воспоминаний И.С. Тургенева о внешнем облике ВТ. Белинского (из чего следует, что в лекции вступительная часть завершалась призывом Мережковского вглядеться «в лицо» критика: «...чтобы услышать говорящего, как следует, надо сначала увидеть, кто говорит» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 6-7]), и перенес ее ближе к началу текста. Благодаря этой перестановке основная часть стала начинаться цитатой из Ф.М. Достоевского, который вынес Белинскому «приговор»: «“Этот человек ругал мне Христа”. Он “бил по щекам свою мать” - Россию. “Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни”. Таков приговор Достоевского над Белинским» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 6]. При этом в машинописи отсутствует нумерация последней части (в публикации - «VI»), которая служит заключением к лекции и начинается с новой страницы.
Большинство авторских исправлений носит сугубо технический (пунктуационный, орфографический) или, как уже говорилось, стилистический характер. Мережковский стремится избавиться от лишних слов (включая союзы, местоимения) и повторов. Например: «Об этом действительном или мнимом “безбожии” [русской интеллигенции] я и хочу говорить [с вами] по поводу Белинского, первого русского интеллигента» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 5] (здесь и далее в квадратных скобках -не вошедшее в публикацию). Реже писатель добавляет слова, в целом не меняющие смысл высказывания. Ср.: «“Неистовство” и есть эта вечная “движимость” - мятежность, “революционность”» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 19] (здесь и далее курсивом - вписанное автором от руки). Между тем далеко не все исправления, внесенные Мережковским в машинопись, нашли отражение в опубликованном тексте. Так, даже в одном предложении, содержащем две рукописные вставки (причем обе выполнены чернилами и, похоже, разом), первая сохраняется при публикации, а вторая - нет: «Однажды, на званом вечере у кн. \Вл. Фед. ] Одоевского.. .» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 9]. Подобных примеров немало, и они вряд ли заслуживают перечисления из-за своей незначительности. Некоторые исключения в этом ряду - зачеркнутые в машинописи, но сохранившиеся при печати слова Белинского об отце, который его «ругал, унижал, придирался, бил нещадно»: «...вечная ему память!» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 11]; вписанное от руки, но так и не вошедшее в публикацию слово «женоненавистники» (причем в автографе оно изначально было вычеркнуто самим автором [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. И]), поставленное рядом с «великими девственниками», применительно к которым Мережковский заявляет: «Никто так не чувствует соблазна женского...» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 12]; добавленная синим карандашом, но так и не дошедшая до печати характеристика «духа Достоевского» как «духа вражды к интеллигенции», который «с 1905 года начал возрастать <...> и в наши дни возрос, как еще никогда» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 32].

Редкий случай среди исправлений, внесенных в машинопись, не увидевших свет в газетном варианте текста, но зафиксированных в изданной позднее брошюре, - зачеркнутое простым карандашом указание на источник цитаты: «(Головачева-Панаева)» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 17]; «- “Бакунин - космополит в душе... А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы?.. Ведь, это было бы то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу”» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 17]. Ср. с первоисточником: «.. .он космополит в душе; <.. .> А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы <...> Ведь это было бы одно и то же, - что захотеть развести в Италии березовую рощу...» [Головачева (Панаева) 1889, 558] (см. также: [Панаева (Головачева) 1986, 133]). Этот исключительный пример подтверждает, что исчезновение отсылки к источнику в брошюре не было ошибкой наборщика и отвечало воле автора, но не отрицает главного для нас вывода: сохранившуюся в РО ИРЛИ беловую машинопись лекции писатель использовал как черновик для внесения по большей части косметических, но вовсе не окончательных правок при подготовке газетного текста «Завета Белинского».
Содержательных расхождений между устным выступлением и первой публикацией немного. Во-первых, Мережковский собственноручно, простым карандашом, вычеркнул из машинописи своей лекции страницы [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 24-29], которые соответствуют фрагменту, позднее добавленному в IV часть одноименной брошюры [Мережковский 1915 с, 29-34] (с ничтожными стилистическими расхождениями), но отсутствовавшему в «Биржевых ведомостях» (после слов: «От одного к другому, от “монашества” к “неистовству”, от религии к революции - таков путь Белинского, первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции» - и до фразы: «Круг сознания не замкнут; но когда замкнется, то, может быть, и революционная мысль о человечестве-обществе соединится с религиозною мыслью о человеке-личности» [Мережковский 1915 b, 2]). В автографе лекции этот фрагмент не вычеркнут, но (вероятно, позднее) выделен на полях синим карандашом [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 30-38]. Думается, что Мережковский руководствовался не цензурными опасениями, хотя в данной купюре разговор действительно выходил в политическую плоскость в связи с критикой самодержавия и православия, увлечением Белинского революционной идеей социализма, его близостью с анархистом М.А. Бакуниным. Скорее всего, автору пришлось сократить текст по объективным причинам, чтобы уместиться в рамки «подвала», отведенного ему в двух номерах «Биржевых ведомостей». Формат брошюры был менее стесненным в этом отношении, и писатель без труда восстановил фрагмент, который и в самом деле отличался общественно-политической остротой.
Во-вторых, V часть машинописи содержит рукописную вставку, которая, исходя из характера правки, предназначалась уже не для устного выступления, а для газеты. Мережковский чернилами на обороте листа вписал цитату из воспоминаний «одной современницы» Белинского: «В последний раз я была у Б. за неделю до его смерти <...> застали мы его полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 30 об.]. При публикации эта цитата слилась с другой из тех же воспоминаний. Многоточия, указывающего на имеющийся в цитате пропуск, у Мережковского нет. Ср.: «В последний раз я была у него за неделю до его смерти; застали мы его полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон <...> Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует; но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать...» [Тургенев 1983, 52; впервые: Тургенев 1869, 695-729] (Мережковский, судя по всему, использовал издание наследников братьев Салаевых «Сочинения И.С. Тургенева» в 10 томах [см.: Тургенев 1880,1, 19-62]).
В «Биржевых ведомостях», как и в отдельном издании «Завета Белинского», эта склеенная цитата присутствует. Но если в газете указание на «Воспоминания» Тургенева при ней остается, то в брошюре - исчезает [Мережковский 1915 с, 38]. Возможно, здесь, как и в случае с Головачевой-Панаевой, Мережковский стремился скрыть цитирование «из вторых рук». У читателя его работы возникает ощущение прямого разговора Белинского с Бакуниным: «Когда Бакунин предложил ему покинуть навсегда Россию, Белинский пришел в ужас...» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 17] - эти слова предпосланы той самой цитате из «Воспоминаний» Головачевой-Панаевой, где обнаруживается ее роль в качестве посредника: «Мне удалось только на другое утро сообщить ему то, что просил меня передать Бакунин» [Головачева (Панаева) 1889, 557]. Своеобразным посредником выступает и Тургенев, завершая свои воспоминания о Белинском «сообщением письма одной близкой ему дамы» от И (23) июня 1848 г. [Тургенев 1983, 51], имя которой он не называет, да и письмо приводит с купюрами. Однако известно, что имелась в виду Александра Петровна Тютчева, жена Николая Николаевича Тютчева - приятеля Белинского (см. полный текст письма: [Белинский в неизданной переписке... 1950, 196-197]).
Наконец, в заключительной части машинописи встречаем фразу, которая вряд ли могла сохраниться при публикации, поскольку предназначалась для устного выступления и непосредственно отсылала к вводному «извинению» Мережковского о связи его публичной лекции с «великими событиями» современности: «Я кончу тем же, чем начал. [Если вы почувствовали реализм поставленного мною вопроса, - задача моя исполнена]» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 35].
В завершение наших текстологических заметок укажем, что в РО ИРЛИ хранятся не только машинопись и автограф лекции, но и подготовительные выписки Мережковского к «Завету Белинского». Они сгруппированы автором по одиннадцати рубрикам: «I. О своей жизни. II. О себе.
-
III. Литература. IV. Действительность и отвлеченность. V. Женщины, карты. VI. Социализм, революция. VII. Личность, как начало метафизическое. VIII. Религия. IX. Бакунин, Катков и пр. X. Европа. XI. Россия» [ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 1] - и представляют самостоятельный интерес для изучения творческой лаборатории писателя, принципов его работы с источниками. По этой проблеме нами уже ведутся отдельные разыскания, превосходящие по объему задачи и границы представленного здесь исследования.
Список литературы Текстологические заметки к "Завету Белинского": по архивным материалам из РО ИРЛИ и РГАЛИ
- Белинский в неизданной переписке современников (1834-1848) / Предисл. и ред. А. Осокина; публ. и коммент. М. Барановской, Н. Бродского, Ю. Красов-ского, Л. Ланского, Н. Розенблюма, Н. Соколова, В. Спиридонова, Я. Черняка и Н. Эфрос // Литературное наследство. Т. 56. Кн. II. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 196-197.
- Головачева А.Я. (Панаева). Воспоминания // Исторический вестник. 1889. Т. 35. С. 531-561.
- Д.С. Мережковский о «завете Белинского» // Речь. 1915. 28 февраля. № 57. С. 5.
- Лекция Д.С. Мережковского // Русские ведомости. 1915. 6 марта. № 53. С. 4.
- (a) Мережковский Д. Завет Белинского (Религиозность и общественность русской интеллигенции) // Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 11 (24) апреля. № 14777. С. 2.
- (b) Мережковский Д. Завет Белинского (Религиозность и общественность русской интеллигенции) // Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 16 (29) апреля. № 14787. С. 2.
- (c) Мережковский Д.С. Завет Белинского: Религиозность и общественность русской интеллигенции. [Пг.: «Прометей» Н.М. Михайлова, 1915].
- Панаева А.Я. (Головачева). Воспоминания / Вступ. ст. К.И. Чуковского; прим. Г.В. Краснова и Н.М. Фортунатова. М.: Правда, 1986.
- Тургенев И.С. Воспоминания о Белинском // Вестник Европы. 1869. № 4. С. 695-729.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 11. М.: Наука, 1983.
- Тургенев И.С. Сочинения: в 10 т. М.: насл. бр. Салаевых, 1880.
- Холиков А.А. «Завет Белинского» в изводе Д.С. Мережковского: от публичной лекции к брошюре (история текста и его литературно-критического восприятия) // Новый филологический вестник. 2020. № 3 (54). С. 116-130.