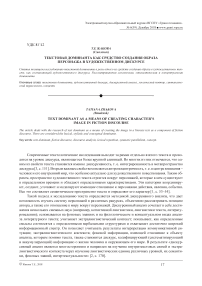Текстовая доминанта как средство создания образа персонажа в художественном дискурсе
Автор: Жакова Татьяна Евгеньевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингвистика и коммуникация
Статья в выпуске: 6 (59), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию текстовой доминанты в роли одного из средств создания образа в художественном тек- сте, как составляющей художественного дискурса. Рассматриваются лексическая, стилистическая и концептуальная доминанты.
Текстовая доминанта, художественный дискурс, дискурсивный анализ, лексический повтор, синтаксический параллелизм, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/148310401
IDR: 148310401 | УДК: 81’42
Текст научной статьи Текстовая доминанта как средство создания образа персонажа в художественном дискурсе
Современные текстологические исследования выходят за рамки отдельно взятого текста и проводятся на уровне дискурса, являющегося более крупной единицей. Во многих из них отмечается, что одним из свойств текста становится именно дискурсивность, т. е. интегрированность в метапространство дискурса [3, с. 151]. Вторым важным свойством является антропоцентричность, т. е. в центре внимания – человек и его внутренний мир, что особенно актуально для художественного повествования. Таким образом, пространство художественного текста строится вокруг персонажей, которые в нем существуют в определенном времени и обладают определенными характеристиками. Эти категории координируют, создают, уточняют и моделируют имеющие отношение к персонажам действия, явления, события. Все это составляет семантическое пространство текста и определяет его характер [1, с. 53–54].
Такой подход к исследованию текста определяется методикой дискурсивного анализа, что дает возможность изучать систему персонажей в различных ракурсах, объективно рассматривать позицию автора, а также его отношение к миру вокруг персонажей. Дискурсивный анализ сочетает в себе достижения нескольких смежных наук (например, когнитивной лингвистики, лингвистики текста, литературоведения); основывается на фоновых знаниях и на филологическом и концептуальном видах анализа литературного текста; учитывает экстралингвистический контекст; показывает, как определенные смыслы соотносятся с определенными вербальными структурами и охватывает достаточно широкий информационный спектр. Он позволяет учитывать результаты интерпретации коммуникативной ситуации; экстралингвистического контекста; фоновой информации, имеющей отношение к объекту анализа, которым помимо текста, также становится дискурс, кодифицирующий (систематизирующий и аккумулирующий) информацию о жизни человека и окружающем его мире. В результате «дискурсивный анализ является многосторонним и направлен на изучение внутритекстовых связей и экстра-лингвистического контекста через изучение лингвистических единиц различных уровней, их семантики, фоновых знаний, интертекстуальности» [2, с. 170].
Одним из этапов лингвистического, а вслед за ним и дискурсивного анализа, можно считать определение и интерпретацию, имеющих когнитивный характер, текстовой доминанты как центра аккумуляции уникальных смыслов художественного текста и дискурса. Еще Р. Якобсон отмечал: «Доминанту можно определить как фокусирующий компонент художественного произведения… Доминанта обеспечивает интегрированность структуры. Доминанта специфицирует художественное произведение» [4, с. 59]. Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин, в свою очередь, полагают, что доминанту следует определять на заключительном этапе лингвистического анализа текста, после изучения его структурносемантической и коммуникативной организации [1, с. 215]. Исследователи также считают, что текстовая доминанта обусловлена актуализацией формальных языковых средств различных уровней (лексического, грамматического, морфологического, стилистического и т. п.).
Так, в ходе анализа художественного текста значительная роль отводится анализу системы образов персонажей, для создания которых используется их языковая характеристика, анализ их мыслей, чувств, переживаний, поступков, образа жизни. Автор произведения подбирает языковые единицы так, чтобы читатель, интерпретировав их, мог увидеть необходимые пресуппозиции и импликации. Наиболее значимые из этих способов характеристики персонажа становятся текстовыми доминантами, которые можно считать средством создания образа персонажа. На наш взгляд, текстовая доминанта может быть стилистической, лексико-грамматической (лексической и грамматической) и концептуальной.
Следует также учитывать, что лингвистические единицы при употреблении их в художественном дискурсе отличаются контекстуальностью, ассоциативностью, способностью устанавливать связь с единицами не только в пределах определенного сегмента текста, но и с единицами, расположенными дистантно. Одна из наиболее часто встречающихся доминант – лексико-грамматическая, поскольку образ не имеет объективную трактовку без анализа языкового оформления текста. Лексические единицы могут представлять какое-либо семантическое поле, лексико-тематическую или гипонимическую группу. Все это «работает» на формирование определенного образа. Доминанты, прослеживаемые в таких случаях, семантически насыщены, участвуют в построении текстообразующих прагматических связей, характеризуются множественностью смыслов, обусловлены авторским замыслом, поэтому их исследование составляет важную часть аналитической работы.
Рассмотрим реализацию текстовых доминант в различных художественных произведениях. В частности, в романе Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» (M. Haddon “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”) ярко представлен образ главного героя, Кристофера Буна, у которого отмечаются признаки одной из форм аутизма – синдрома Аспергера, типичными проявлениями которого являются определенные трудности с невербальной коммуникацией, установлением и поддержанием контактов с окружающими; отмечается склонность к однотипному поведению, стереотипизированности речи; углубленностью интереса в определенной сфере. Однако сам автор произведения говорит, что у него не было цели описать жизнь ребенка с подобным синдромом и приклеивать, таким образом, ярлыки. Он настаивает на своем стремлении показать жизнь человека, не похожего на большинство из нас. При этом в тексте романа можно увидеть отражение некоторых из вышеперечисленных характеристик в образе этого персонажа: в его действиях, образе жизни и речи.
Методика дискурсивного анализа позволяет использовать данные экстралингвистического контекста и коммуникативной ситуации, принимать во внимание вышеуказанные речевые и поведенческие особенности людей с синдромом Аспергера и понимать, почему для создания языковой характеристики персонажа М. Хэддон часто использует синтаксический параллелизм и лексический повтор (иногда их сочетание, усиленное полисиндетоном). Высокая частотность их применения в данном произведении относит их к текстовой доминанте стилистического типа. Эти стилистические приемы позволяют создать эффект «трафаретности» речи и поведения главного героя – Кристофера Буна, типичной в такой ситуации. В подтверждение вышесказанного рассмотрим несколько примеров из текста романа:
“But I do like murder mystery novels . So I am writing a murder mystery novel ” [8, с. 5].
“It is a puzzle. If it is a good puzzle you can sometimes work out the answer before the end of the book” [Там же, с. 5].
“That is why I started with the dog. I also started with the dog because it happened to me…” [Там же, с. 5].
“He was asking too many questions and he was asking them too quickly” [Там же, с. 8].
“He opened the back door and got inside. He climbed into the driver’s seat and made a call on his radio” [Там же, с. 11].
“He held up his right hand and spread his fingers out in a fan. I held up my hand and spread my fingers out in a fan and we made our fingers and thumbs touch each other” [Там же, с. 21].
“ Then I detected in the utility room . Then I detected in the dining room . Then I detected in the living room … Then I heard Father coming through the front door… Then I went upstairs …” [Там же, с. 115–116].
“ They can have pictures of someone in another room. Or they can have a picture of what is going to happen tomorrow. Or they can have pictures of themselves as an astronaut. Or they can have pictures of really big numbers. Or they can have pictures of chains of reasoning when they are trying to work something out” [Там же, с. 147].
“I decided that I would go and knock on Mrs. Shear’s door and I would go and live with her…” [Там же, с. 160].
“So I put my hands over my ears to block out the noise and think . And I thought that I had to stay in the station to get on a train and I had to sit down somewhere and there was nowhere to sit down near the door of the station…” [Там же, с. 180].
Пример одного из объяснений Кристофера, насыщенных повторяющимися элементами и однотипными структурами (в данном случае он рассказывает, что такое ложь):
“A lie is when you say something happened which didn’t happen . But there is only ever one thing which happened at a particular time and a particular place . And there are an infinite number of things which didn’t happen at that time and that place . And if I think about something which didn’t happen I start thinking about all the other things which didn’t happen” [Там же, с. 24].
За счет употребления указанных приемов складывается впечатление, что Кристофер, являясь рассказчиком в данном произведении, постоянно пытается объяснять свои действия, поступки, решения путем многократного повтора одной и той же идеи, сочетания, конструкции, словно убеждая и себя, и читателя в их правильности и абсолютной логичности. Однако, когда он пересказывает разговоры с другими людьми, эти приемы практически не используются, поскольку он стремится воспроизвести их в точности: речь других людей не характеризуется «трафаретностью». Кристофер одарен в математике, он любит быть точным и логичным, хотя его поступки и пристрастия не всегда могут таковыми показаться для стороннего наблюдателя: он не любит желтый и коричневый цвета, но ему нравится красный; не любит смешивать пищу разных цветов в своей тарелке; ненавидит, когда кто-либо касается его, даже если это близкий человек, и т. п. Лексический повтор и синтаксический параллелизм употребляются настолько часто, что становятся текстовой доминантой, формируют текстообразующие прагматические связи; становятся важным средством формирования образа главного героя. Данную особенность языкового оформления текста следует также учитывать при переводе данного произведения на русский язык.
Пример использования сквозного повтора посредством лексических единиц одного семантического поля, которые становятся лексической доминантой, можно отметить при создании образа Маргарет Хейл – главной героини романа «Север и Юг» английской писательницы Элизабет Гаскелл. На протяжении всего романа при её описании автор часто употребляет единицы поля «высокомерие»: прилагательные (proud, haughty, supercilious, fastidious, scornful, dignified, grand); существительные (contempt, contemptuousness, vanity, dignity, pride, haughtiness, superciliousness); глаголы и глагольные словосочетания (to condescend, to give oneself airs). Цель данного приема имплицитно и эксплицитно указать на высокомерие героини как одну из доминирующих черт ее характера. Именно используя такие еди- ницы, описывают её все с кем она знакома, даже близкие люди, хотя особенно часто это звучит из уст Мистера Торнтона и его матери:
“Her quiet coldness of demeanour he interpreted into contemptuousness, and resented it in his heart to the pitch of almost inclining him to get up and go away, and have nothing more to do with these Hales, and their superciliousness” [7, с. 69].
Далее, по мере развития образа этого персонажа, автор для имплицитной характеризации поведения Маргарет к высокомерию и горделивости добавляет величественность, делая это путем применения единиц из семантического поля «аристократические титулы» (princess, queen, queenly, regal, regally, duke’s daughter, vassal). Общеизвестно, что королевы, принцессы, графини, княгини и т. п., в соответствии со стереотипом, отличаются величественностью и горделивостью. Такое описание вносит новый оттенок в общий портрет героини – девушка из простой, небогатой семьи производит впечатление царской особы своим поведением и манерами:
“The only time I saw Miss Hale, she treated me with a haughty civility which had a strong flavour of contempt in it. She held herself a loof from me as if she had been a queen, and I her humble, unwashed vassal ” [Там же, с. 86].
На наш взгляд, еще одним способом формирования образа персонажа помимо языковой характеристики, является концептуальная составляющая, которая также может играть роль текстовой доминанты. Посредством вербализации различных концептов при описании персонажа, его действий, эмоций, образа жизни или включением их в его речь автор может создавать необходимые смысловые импликации и экспликации. Концепты также могут становиться доминантными при структурировании образа и поддерживать лингвистические средства вышеуказанных языковых уровней.
Так, базовый концепт «пространство» и, прежде всего, одна из ключевых бинарных оппозиций «свой – чужой», которая его представляет, зачастую используются для иллюстрации положения персонажа в обществе и восприятия его другими людьми. Причина настороженного отношения к главному персонажу – ткачу Сайласу Марнеру (Silas Marner) – в одноименном романе Джордж Элиот, становится понятной, если мы будем учитывать, что такое враждебное отношение жителей деревни Равелоу к ткачу объясняется тем, что он вторгся в чужой для него мир из незнакомого для крестьян «чужого», индустриального мира, расположенного на севере страны (the world outside, distant parts, emigrants from town, aliens). Автор поясняет, что крестьяне с подозрительностью и недоверием (vaguenes and mystery, distrust) воспринимали любого «чужого» человека, о семье которого они ничего не знали и, более того, занятие которого было для них непостижимым и таинственным:
“To the peasants of old times the world outside their own direct experience was a region of vagueness and mystery ; … and even a settler, if he came from distant parts, hardly ever ceased to be viewed with a remnant of distrust …” [6, с. 9].
“The shepherd himself … was not quite sure that this trade of weaving, indispensable though it was, could be carried on entirely without the help of the Evil One” [Там же, с. 9].
“In this way it came to pass that those scattered linen-weavers – emigrants from the town into the country – were to the last regarded as aliens by their rustic neighbours…” [Там же, с. 10].
Неприятие главного героя местными жителями было настолько велико, что даже через 15 лет отношение к нему не изменилось: он оставался представителем «чужого» мира, которому нельзя было доверять:
“At the end of the fifteen years the Raveloe men said just the same things about Silas Marner as at the beginning… his mysterious peculiarities which corresponded with the exceptional nature of his occupation , and his advent from an unknown region called ‘North’ard’ … they [girls of Raveloe] would never marry a dead man come to life again. This view of Marner’s personality was not without another ground than his pale face and unexampled eyes …” [Там же, с. 14].
Концепт «пространство» отражается в восприятии Сайлеса жителями деревни, которое акцентируется автором путем употребления определенных лексических единиц: прилагательных “mys- terious” (букв. «таинственный, загадочный») и “unknown” (букв. «неизвестный»), существительного “advent” (букв. «прибытие, пришествие»), через сопоставление главного героя с «ожившим мертвецом» из-за бледного лица и необычных глаз. По-прежнему никто не хотел сближаться с таким странным соседом, ни одна из местных девушек не хотела связывать с чужаком свою судьбу, что обрекало его на изоляцию и полное одиночество. Как и 15 лет назад крестьяне не знали, кто он, из какой семьи, что делал «на севере» до появления в их деревне, как овладел неведомым и непостижимым ремеслом (“exceptional nature of his occupation”). В соответствии с мифологическими представлениями о пространстве север (North’ ard) – чужой мир, «оживший мертвец» – человек, пришедший из чужого «потустороннего» мира, находящегося за пределами понимания местных крестьян. Коммуникативная ситуация и экстралингвистический контекст указывают на то, что ткач Сайлес Марнер вынужден был искать себе работу и пристанище в отдаленных местах вследствие промышленной революции, началом которой стала модернизация ткацких фабрик в городах, прежде всего на севере Великобритании. Внешность ткача (бледное лицо, выпученные, необычные для крестьян глаза) говорит о его многолетнем труде за ткацким станком, но усиливает подозрительное отношение к немужителей Равелоу.
Другие герои даже спустя много лет продолжают называть ткача “the old fool of a weaver” [6, с. 44], “the old staring simpleton” [Там же, с. 50], “a half- crazymiser” [Там же, с. 78]. Его внешность тоже вызывала страх и подозрение:
“ Anyone who had looked at him… would perhaps have understood the mixture of contemptuous pity, dread and suspicion with which he was regarded by his neighbours in Raveloe” [Там же, с. 54].
“Anybody might know – and only look at him – that the weaver was a half-crazy miser” [Там же, с. 78].
Даже после того, как у Марнера украли все его сбережения и отношение к нему немного «смягчилось», пренебрежительность не исчезла: его стали воспринимать как сумасшедшего. Однако автор отмечает, что это чувство соседей было более добрым и мягким, чем прежде:
“And yet he was not utterly forsaken in his trouble. The repulsion Marner had always created in his neighbours was partly dissipated by the new light in which his misfortune had shown him… He was generally spoken of as a “poor mushed creature” ; and that avoidance of his neighbours, which had before been referred to his ill-will, and to a probable addiction to worse company, was now considered mere craziness . This change to a kindlier feeling was shown in various ways…” [Там же, c. 94–95].
Дискурсивный анализ позволяет расшифровать авторский посыл, информацию, представленную имплицитно. Экспликация оппозиции «свой – чужой» концепта «пространство» в ходе всего повествования делает этот концепт своего рода доминантой, которая также участвует в создании образа Сай-леса Марнера.
При формировании образа главного героя повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» (“Christmas Carol”) прослеживаются доминанты разных типов, наиболее ярко представлены лексическая и концептуальная. Уже в самом начале главный герой – Скрудж – представлен крайне жадным, злым человеком, видевшим смысл жизни только в накопительстве и холодном расчете. Он не знает, что такое любовь и сострадание, его не радует общение с родственниками, во всех он видит лишь желание посягнуть на его накопления. Для передачи таких интенций автор использует следующие лексические единицы:
-
– hard and sharp as flint, букв. «твердый и острый как кремень»: кремень – очень твердый камень, который царапает стекло, в древности из него изготавливали наконечники стрел и копий, использовался также для высекания огня, в средневековье в качестве огнива – является символом твердости характера персонажа;
-
– steel, букв. «сталь, огниво»;
-
– generous fire, букв. «благодатный огонь» (который никогда не исходил от Скруджа).
Итогом такого образа жизни и отношения к окружающим стала его полная изоляция. Он сам обрек себя на одиночество и жил словно «устрица» в своей раковине (secret and self-contained, and solitary as an oyster): Скрудж стал для всех «чужим». Концептуальный анализ показывает, что концепт «про- странство», который реализуется через оппозицию «свой – чужой», можно рассматривать как одну из доминант при создании данного образа. Как и в случае с героем романа Дж. Элиот Сайлесом Марнером, «чужой мир» является символом зла, холода, царства мертвых. В данной повести Ч. Диккенс также использует образ «живого мертвеца» с синими губами (thin blue lips), скрипучим голосом (grating voice), инеем на волосах и бровях (frosty rime). Он словно застыл: ни жара, ни холод не действовали на него: “External heat and cold had little influence on Scrooge. No warmth could warm, no wintry weather chill him. No wind that blew was bitterer than he, no falling snow was more intent upon its purpose, no pelting rain less open to entreaty. Foul weather didn’t know where to have him” [5, c. 3].Таким образом, методика дискурсивного анализа и определение текстовой доминанты позволяют более полно интерпретировать смысловой и содержательный аспекты художественного текста, являющегося элементом художественного дискурса, а в случае анализа системы образов произведения более полно и глубоко эксплицировать наполнение определенного образа.
Список литературы Текстовая доминанта как средство создания образа персонажа в художественном дискурсе
- Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. 6-е изд. М.: Флинта, 2009.
- Жакова Т.Е. Дискурсивный анализ художественного текста как способ декодирования имплицитной информации// Изв. Смоленск. гос. ун-та. 2016. № 4(36). С. 169-176.
- Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: ЛЕНАНД, 2014.
- Якобсон Р. Доминанта // Хрестоматия по теоретическому литературоведению // под ред. И. Чернова. Тарту: Тартус. гос. ун-т, 1976.
- Dickens Ch. Christmas Carol. London: Wordsworth Edition Limited, 1993.
- Eliot G. Silas Marner. London: Penguin Books, 1994.
- Gaskell E. North and South.London: Penguin Books, 2012.
- Haddon M. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London:Vintage Books, 2004.