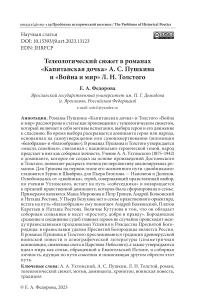Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Война и мир» Л. Н. Толстого
Автор: Федорова Е.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Романы Пушкина «Капитанская дочка» и Толстого «Война и мир» рассмотрены в статье как произведения с телеологическим сюжетом, который включает в себя мотивы испытания, выбора героя и его движение к спасению. Во время выбора раскрывается доминанта героя или народа, основанная на самоутверждении или самопожертвовании (оппозиция «безобразие» и «благообразие»). В романах Пушкина и Толстого утверждается «мысль семейная», связанная с национально-героической темой, народ предстает в них как соборная личность. Учение А.А. Ухтомского (1875-1942) о доминанте, которое он создал на основе произведений Достоевского и Толстого, позволяет раскрыть этическую перспективу анализируемых романов. Для Гринева на первом этапе его жизненного пути «двойниками» становятся Зурин и Швабрин, для Пьера Безухова - Наполеон и Долохов. Освобождаясь от «двойника», герой, совершающий нравственный выбор, по учению Ухтомского, встает на путь «собеседника» и возвращается к прежней нравственной доминанте, которая была сформирована в семье. Примерами являются Маша Миронова и Петр Гринев, Андрей Болконский и Наташа Ростова. У Пьера Безухова нет в семье нравственного ориентира, встать на путь «благообразия» ему помогают Андрей Болконский, Платон Каратаев и Наташа Ростова. Величие Кутузова в том, что он обладает соборным сознанием и несет «простоту, добро и правду». Бородинское сражение и соединение судеб главных героев не случайно происходит между православными праздниками Успения и Рождества Пресвятой Богородицы: в православии уделом Пресвятой Богородицы является Россия. В романах Пушкина и Толстого прослеживаются традиции древнерусской воинской повести и агиографической литературы (симметричная композиция, символика света и Царствия Небесного), а также утверждаются идеал мира как семьи, обращенной к Евангельской Истине, и соборная личность, идущая по пути спасения и помогающая другим обрести этот путь.
А. а. ухтомский, а. с. пушкин, л. н. толстой, роман, телеологический сюжет, мотив, доминанта, хронотоп, воинская повесть, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147242328
IDR: 147242328 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13123
Текст научной статьи Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Война и мир» Л. Н. Толстого
Acknowledgments. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 23-28-01302, https://rscf.ru/project/23-28-01302/ . For citation: Fedorova E. A. Teleological Plot in the Novels “The Captain’s Daughter” by A. S. Pushkin and “War and Peace” by L. N. Tolstoy. In: Proble-my istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2023, vol. 21, no. 4, pp. 102–129. DOI: 10.15393/j9.art.2023.13123. EDN: JHRFCP (In Russ.)
В русских романах XIX в. на первый план выходит проблема личности, ищущей смысл жизни и определяющей свое место в судьбе России. Все чаще современные исследователи обращаются к историософскому смыслу произведений русской литературы, в том числе романов Достоевского и Толстого (см.: [Полтавец], [Сорокина], [Бражников], [Феномен эпического романа]). В основном исследователи доказывают, что «мысль народная» в русском романе неотделима от «мысли христианской» в ее православном значении [Феномен эпического романа: 59]. Но в некоторых случаях происходит замена понятия «историософский» понятием «мифопоэтический» и смешиваются христианские аллюзии с фольклорномифопоэтическими [Ибатуллина].
В зарубежной науке наблюдается стремление осмыслить христианские особенности мироощущения Толстого [Givens], [Christesen], исследуется художественная антропология писателя [Гудонене]. Так, американский исследователь Джон Гивенс раскрывает апофатический характер божественной любви к врагу, которая возникает у князя Андрея к страдающему Курагину [Givens: 136], и отказывает в подобной любви Наташе к Пьеру Безухову, считая ее эгоистичной и корыстной [Givens: 142].
В целом можно отметить, что в российской и зарубежной науке наблюдается стремление исследовать творчество Толстого как христианского писателя, размышляющего о судьбе
Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка»… 105 Отечества. Так, В. Б. Ремизов цитирует предсмертное послание Толстого Славянскому съезду, где высказывается мысль о том, что началом единения христианского мира станет объединение славян [Ремизов: 628].
Проблема «Толстой и Пушкин» рассматривается многими авторами, среди них — Б. М. Эйхенбаум, А. Г. Цейтлин, В. Горная, Э. Г Бабаев, Е. А. Маймин и др. (см. об этом: [Вершинина: 144]). В основном исследователи останавливаются на таком принципе изображения человека как «текучесть» [Эйхенбаум: 136], находят общие черты поэтики писателей, лишь иногда сопоставляют жанровую специфику их романов (см. об этом: [Вершинина: 149]). «Капитанская дочка» при этом обычно сравнивается с повестью «Хаджи-Мурат», а «Война и мир», по мнению большинства критиков, создается под влиянием «Евгения Онегина» (см.: [Эйхенбаум: 147], [Л. Н. Толстой и А. С. Пушкин: сопричастность…: 108]).
Влияние творчества Пушкина на романы Толстого отмечают почти все исследователи. В личной библиотеке Толстого сохранилось около 10-ти изданий произведений Пушкина (от 1857 до 1908 г.), которые Толстой постоянно перечитывал [Полосина: 20]. Сразу после выхода в свет «Войны и мира» известный критик Н. Н. Страхов поднял проблему примирения необходимости и свободы в этом произведении [Страхов: 347] и нашел истоки текста Толстого в «Капитанской дочке», но при этом жанр романа был определен им как «семейная хроника», что неизбежно привело к ограничению интерпретации этого произведения [Страхов: 296]. В 1999 г. в Туле состоялись XXV Толстовские чтения, которые были посвящены сопоставлению идей, образов Пушкина и Толстого. На этой международной конференции поднимались вопросы России и Европы в осмыслении Пушкина и Толстого, проблема свободы воли в понимании авторов, ставился вопрос о художественной реализации в «Капитанской дочке» темы нравственного выбора в онтологическом аспекте (см.: [Л. Н. Толстой и А. С. Пушкин: сопричастность…]). Вместе с тем не было предложено ни одного конкретного сопоставительного анализа «Капитанской дочки» и «Войны и мира».
Традиционный русский роман Пушкина и Толстого ближе всего к греческому роману, где показано испытание героя страданиями или соблазнами [Бахтин: 202]. Онтологическая проблематика этих произведений восходит к трудам Платона, который разрабатывал мифологему «игры с Судьбой». В диалоге «Пир» Платон утверждал, что стремление к Благу — это Любовь, которая дарит человеку бессмертие1. Однако русский роман, основанный на традиционных ценностях, в большей степени ориентирован на телеологический принцип словесности, который А. П. Скафтымов обнаружил в романах Л. Н. Толстого «Война и мир» и Ф. М. Достоевского «Идиот» [Скафтымов: 23–87, 182–217]. В статье «Тематическая композиция романа "Идиот"» (1922–1923) выделенный исследователем телеологический принцип «открывает взаимосвязь композиционных частей произведения, определяет восходящие доминанты и среди них последнюю завершающую точку, которая, следовательно, и была основным формирующим замыслом автора» произведения [Скафтымов: 24]. В работе «К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы» (1923) Скафтымов определяет задачу теоретического анализа произведения — «установление иерархической скалы теологически направленных ценностей» [Темяков: 64]. Телеологический принцип организации системы образов исследователь обнаруживает не только в романе «Война и мир», но и в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» [Новикова: 134–137]. В статье «Образ Кутузова и философия истории в романе "Война и мир"» Скафтымов подчеркивает, что «верное нравственное чувство» помогает Кутузову понять духовный смысл события и подчинить свою личную волю «внеличным, народным целям, сообразно исторической необходимости» [Скафтымов: 193, 217].
Аксиологический подход к художественному тексту ученого и мыслителя Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942) предполагает использование понятий «доминанта», «категория лица». В этическом учении Ухтомского принцип доми нанты опреде ляет картину мира личности:
«Человек подходит к миру и к людям всегда через посредство своих доминант, своей деятельности. Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе реальность, какова она есть, совершенно не соответствует действительности. Наши доминанты, наше поведение стоят между нами и миром, между нашими мыслями и действительностью» [Ухтомский: 249].
Проявляющаяся в деятельности человека доминанта, по мысли ученого, определяет его судьбу:
«Человек творит новое в мире, благовествуя на свой страх Бога миру, но это же новое и судит его» [Ухтомский: 27].
Чтобы исключить негативное развитие событий, человек, по мнению Ухтомского, совершает нравственный выбор, который предполагает перенесение с себя на другого человека доминанты как активной установки, определяющей мысли и поступки человека. Отказ от эгоцентризма, самовоспитание Ухтомский считает важнейшей нравственной задачей личности:
«Освободиться от своего Двойника — вот необыкновенно трудная, но и необходимейшая задача человека!
В этом переломе внутри себя человек впервые открывает "лица" помимо себя и вносит в свою деятельность <…> новую категорию лица» [Ухтомский: 251].
Человек может быть носителем нескольких доминант, в ситуации кризиса он может восстановить в себе прежнюю доминанту или сформировать новую. Помочь выстроить ценностные векторы человеку может предание, которое сохраняется в Церкви, и символы, воспринимающиеся им интуитивно, но пробуждающие в нем духовное начало.
В русских романах XIX в., созданных на основе традиционных православных ценностей, обнаруживается телеологический принцип организации композиции. Как древнерусский книжник в летописи или воинской повести стремится уловить Замысел Божий о мире и раскрыть его своим соотечественникам [Мелихов: 27], судьба героя зависит от воли Божией [Мелихов: 29], так и целью создателей русской классической литературы является определение предназначения русского человека и России как хранительницы соборности, православных ценностей. Автор показывает нравственный выбор героя, в основе которого лежит самопожертвование, а Провидение часто помогает этому герою.
-
В. С. Непомнящий обозначает авторскую позицию в повествовательных произведениях Пушкина как определяемую «перспективой христианского идеала, которую новоевропейская логика» назвала «обратной» [Непомнящий: 55]. Он называет художественный метод Пушкина «онтологическим реализмом», поскольку в мире Пушкина раскрывается «осмысленный и духовный порядок Творения» и показаны драматические взаимоотношения человека с этим порядком [Непомнящий: 50]. В. Н. Захаров подобный творческий метод определяет как «христианский реализм», позволяющий раскрыть историческую реальность и одновременно мистический смысл происходящих событий [Захаров: 10].
В статье о втором томе «Истории русского народа» Н. А. Полевого (1830–1831) Пушкин называет христианство «величайшим духовным и политическим переворотом нашей планеты», при этом, замечает писатель, уму человеческому невозможно «предвидеть случая <…> мощного, мгновенного орудия про-видения»2. С этой точки зрения сюжет в повести Пушкина «Метель» («Повести Белкина») можно определить как телеологический: случай сводит Марью Гавриловну и Бурмина, чтобы привести их к соединению в таинстве брака, в семье как малой Церкви.
М. О. Гершензон назвал стихию из повести «Метель» «умной», превосходящей ум «самого человека» [Гершензон: 102–103]. Исследователь объясняет это тем, что «власть имущий следил за милой, простодушной Марьей Гавриловной» [Гершензон: 103]. Вслед за ним С. А. Кибальник замечает, что метель и вещий сон Марьи Гавриловны можно рассматривать как «знаки, поданные Провидением» [Кибальник: 129]. Исследователь обращает внимание на черты святочного рассказа в этой повести — в частности, на рождественский хронотоп [Кибальник: 132], но считает, что тема Провидения свободна у Пушкина от «религиозно-дидактических обертонов, характерных, например, для поэзии Жуковского» [Кибальник: 188]. Обращая внимание на изменение художественной философии Пушкина в 1830-е гг., С. А. Кибальник вместе с тем приходит к выводу о диалектике случайного и закономерного в творчестве Пушкина, поэтому метель, по его замечанию, ввергает Бурмина в мучительные противоречия, а Гриневу «дарит встречу, которой он впоследствии оказывается обязан жизнью» [Ки-бальник: 135]. Думается, что в повести «Метель» и романе «Капитанская дочка» автор поднимает проблему личности, главными сюжетными мотивами становятся испытание и выбор, который совершают герои.
Во время первой встречи оба героя повести «Метель» проявляют своеволие: Марья Гавриловна хочет выйти замуж за Владимира, вопреки воле родителей, а Бурмин ведет себя легкомысленно, венчаясь с незнакомой девушкой. Во второй раз их сводит случай уже после того, как они, пройдя через страдания, изменились: героиня потеряла любимого человека на войне, а герой сам прошел войну и осознал чудовищность ситуации, в которой оказался (он не знает, кто его супруга). Страдание не просто очищает сердца героев, они оба готовы отказаться от любви, поскольку теперь для них важнее долг и следование закону. Они делают нравственный выбор, который предполагает готовность забыть о себе ради Истины. И в этот момент обнаруживается, что их жизни удивительным образом соединены.
В романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) также можно обнаружить телеологический сюжет. В начале романа Петр Гринев жаждет свободы и удовольствий, освободившись от опеки родителей:
«Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни» ( Пушкин ; т. 6: 397).
С другой стороны, отец дает ему установку, которую герой сохраняет и которой он следует в главном:
«Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смόлоду» ( Пушкин ; т. 6: 398).
Подобное же напутствие дает отец Андрею Болконскому, герою романа Толстого «Война и мир»:
«Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет… — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал. — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно!»3
«Двойниками» Петра Гринева на первом этапе испытания становятся становятся Зурин, обучающий его игре в бильярд на деньги, и Швабрин, высокомерно относящийся к окружающим. Дистанция, которая разделяет повествователя и молодого Гринева-повесу, позволяет автору дать нравственную оценку себе прежнему:
«…вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю» ( Пушкин ; т. 6: 400).
И даже после дуэли со Швабриным Гринев признается, что в его клевете видел «досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви» ( Пушкин ; т. 6: 439), т. е. он понимал своего соперника, испытывая схожие чувства. Сначала Гринев, подобно Швабрину, любит Машу Миронову страстной любовью, поэтому готов нарушить отцовскую волю. Помогает восстановить систему ценностей герою Маша Миронова, которая не может пойти против воли родителей:
«Видно, мне не судьба… Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля Господня! Бог лучше нашего знает, чтó нам надобно» ( Пушкин ; т. 6: 443).
Изменение сюжета происходит, когда судьба героя соединяется с судьбой Отечества. Нравственный выбор Гринева окончательно отделяет его от Швабрина. Сначала он чувствует себя защитником Маши:
«Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем» ( Пушкин ; т. 6: 461).
Затем Гринев решает принять смерть, но не присягать самозванцу. В этот момент он забывает о себе, молясь о судьбе близких:
«Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу» ( Пушкин ; т. 6: 465).
В борьбе чувства и разума Гринев выбирает чувство, но это нравственное чувство. В своем письме Маша Миронова обращается к нему не как к жениху, а как к носителю доброго сердца:
«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра, и что вы всякому человеку готовы помочь…» ( Пушкин ; т. 6: 491).
Кроме того, героиня передает угрозу Швабрина, что ее судьба будет подобна судьбе Лизаветы Харловой, казненной в смутное время Пугаческого восстания. Когда после освобождения Маша по-прежнему напоминает Петру Гриневу о необходимости следовать воле родителей, он ей уже не противоречит ( Пушкин ; т. 6: 515).
Еще один выбор делает Гринев, когда вновь решает не говорить о причине своего возвращения к Пугачеву, чтобы не вмешивать в эту историю Машу Миронову. Выбор героя дарит ему внутренний покой, делает по-настоящему свободным:
«Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет» ( Пушкин ; т. 6: 528).
Теперь уже Маша Миронова отправляется к императрице просить за жениха. Сюжетный параллелизм, симметричность композиции позволяют автору выстроить этическую перспективу. Включение в роман плача жены по коменданту крепости Миронову — это следование традиции воинской повести [Трофимова]. М. В. Мелихов отмечает, что на последнем этапе трансформации воинской повести в произведениях этого жанра воплощается концепция «просвещенного монарха» [Мелихов: 30].
Прототипом Маши Мироновой является двадцатилетняя Прасковья Григорьевна Луполова, которая отправилась пешком из Ишима в Петербург, чтобы просить императора помиловать ее отца и позволить ему вернуться из сибирской ссылки. В Тобольске Прасковья Луполова получила паспорт, в котором было написано: «Капитанская дочка». История этой девушки нашла отражение в произведениях нескольких авторов. Французская писательница София Мария Коттен создала роман, который был переведен на русский язык и стал популярен в России (он был в библиотеке Ухтомского). Кроме того, подвигу этой девушки посвятили свои произведения Ксавье де Местр и Доницетти. Уже после создания романа Пушкина Н. А. Полевой написал драму «Параша Сибирячка» (1840) [Тахо-Годи].
В романе «Капитанская дочка» нет «двух правд», поскольку автор показывает правоту капитана Миронова, остающегося верным присяге, и его супруги, которая разделяет с ним судьбу ( «Вместе жить, вместе и умирать» ( Пушкин ; т. 6: 458) ) . Василиса Егоровна в ответ на упреки, что она вмешивается в дела супруга, напоминает, что муж и жена «един дух и едина плоть» ( Пушкин ; т. 6: 432). Эти слова перекликаются с убеждением Савельича, который поступает как свободный человек, движимый этическим выбором. Когда Гринев предлагает Савельичу покинуть его, чтобы не подвергать себя опасности, его слуга остается с ним ( Пушкин ; т. 6: 496). После освобождения Маши Мироновой Гринев вновь просит Савельича оставить его, но охранять Машу как его будущую жену, тот соглашается и даже говорит, что будет просить родителей Петра согласиться на эту женитьбу ( Пушкин ; т. 6: 522). «Савельич не раб», — замечал Ф. М. Достоевский по этому поводу4. В выборе героя раскрывается его соборное сознание.
Пугачев не может быть «вожатым» Гринева, как отмечают некоторые исследователи [Макогоненко: 101], [Петрунина: 273], поскольку у этих героев разные взгляды на свободу и смысл жиз ни. Если Пугач ев отстаивает свободу как своеволие и утверждает
«поэзию бунта» (это выражается в калмыцкой сказке об орле и вороне), то Петр Гринев прямо ему говорит:
«Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» ( Пушкин ; т. 6: 476).
В ответ на калмыцкую сказку, рассказанную Пугачевым, в которой жажда власти и воли заслоняет все остальное («там что Бог даст!»), Гринев возражает:
«Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину» ( Пушкин ; т. 6: 508).
Когда же Гринев просит Пугачева отпустить его, то взывает к «чести и христианской совести» ( Пушкин ; т. 6: 513).
Авторские слова о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», нельзя вводить в «диалогические отношения», утверждая амбивалентность ценностей, как это происходит в некоторых исследованиях [Гей: 233]. Следует обратиться к исключенной из романа главе, где показан весь ужас последствий бунта, а также внимательно отнестись к авторским историческим аллюзиям. Гринев так эмоционально откликается на письмо Маши Мироновой, потому что ему известна судьба Лизаветы Харловой, дочери полковника Елагина.
О ее страшной участи рассказал Пушкин в монографии «История Пугачева». Казаки под предводительством Пугачева после падения Татищевой крепости с ее коменданта полковника Елагина содрали кожу, вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его зарубили. Их дочь, Лизавета Харлова, ставшая вдовой (ее муж, комендант Ниже-Озерной крепости, был зверски убит накануне), привезена была к Пугачеву, убийце ее мужа и родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив ее семилетнего брата (Пушкин; т. 8: 172). Атаман привязался к Лизавете. Но пугачевцы стали ревновать своего вожака к этой женщине, и он, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны: «Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в куст, оставались долго в том же положении» (Пушкин; т. 8: 187). Автор, используя аллюзию на судьбу этой несчастной женщины в письме Маши Мироновой, желает обратить читателя к истории пугачевского бунта.
В Пугачеве существуют две доминанты, которые поочередно сменяют друг друга. Показательна встреча Гринева с Пугачевым, когда он окружен своими советниками — Белобородовым и Хлопушей. Хлопуша в ответ на призыв Белобородова казнить Гринева возражает ему:
«Конечно <…> и я грешен, и эта рука <…> повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя…» ( Пушкин ; т. 6: 502).
Особенно показательна исключенная цензурой глава, где главный герой (еще Буланин, а не Гринев) спешит на помощь родителям, против которых взбунтовались их крепостные крестьяне. Рассказчик объясняет это временным помрачне-нием рассудка:
«Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования» ( Пушкин ; т. 6: 549–550).
Подобная ситуация спасения будущей жены героем во время крестьянского бунта и общего помрачения крестьян показана в романе «Война и мир» (Николай Ростов и Марья Болконская).
Достоевский утверждал в «Дневнике Писателя», что роман Пушкина «Капитанская дочка» является одним из лучших произведений отечественной словесности, где воплощаются национальные идеалы:
«Смерть коменданта и комендантши есть чисто русская смерть, а не общечеловеческая. То, как они прощаются друг с другом перед боем с Пугачевым, как отвечает комендант Пугачеву и как кричит комендантша, увидев повешенного своего <…> мужа, про солдатскую головушку — все это русское, все это дух русский, всегдашний, исконный, не от преобразования Петра происшедший, не у <…> гуманной Европы заимствованный, не героический рыцарский, а русский, смиренный <…> и великодушный» ( Д30 ; т. 22: 214).
Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка»… 115 Размышления о пушкинском творчестве приводят Достоевского к выводу:
«ПУШКИН — этот главный славянофил России» ( Д30 ; т. 24: 276).
Для Пушкина, как и для его современников, тема России была важнейшей. В десятой главе романа «Евгений Онегин» писатель размышляет о судьбе Отечества во время войны 1812 г.:
«Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог? Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?» ( Пушкин ; т. 5: 209).
Этическая перспектива в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (1869), посвященном событиям 1812 г., раскрывается благодаря системе образов, которая выстраивается по полюсам «Кутузов — Наполеон», объединению «мысли народной» и «мысли семейной». В романе Толстого А. П. Скафтымов увидел полемику великого русского писателя с Гегелем. Если Гегеля интересует общий ход истории, содержание целей, которые преследует абсолютный дух, направляя жизнь человечества, при этом сами действия освобождаются от моральной оценки, то для Толстого важен нравственный смысл деятельности великой личности. Русский писатель относит Кутузова к тем «великим людям», которые «оказываются способными проникнуться целями понятой ими совершающейся общей необходимости и, таким образом, стать в своей деятельности сознательными проводниками высшего общего смысла истории» [Скафтымов: 188]. Кутузов в романе Толстого выражает, в отличие от Наполеона, соборное начало и стремится к достижению достойной народа цели: «Вся система мыслей, охватывающих содержание образа Кутузова, направлена к выявлению исторического значения великого полководца, всею своею деятельностью осуществлявшего и осуществившего задачу спасения народа от иноземного нашествия» [Скафтымов: 217].
Главные герои романа (Пьер Безухов, Андрей Болконский, Наташа Ростова) проходят путь становления и совершают ошибки, но в ситуации испытания, которая выпадает на долю Отечества, нравственный выбор определяет их судьбу и судьбу России. Если в начале повествования Пьер Безухов и Андрей Болконский, мечтающие о личной славе, ориентированы на Наполеона, то после обращения к общей жизни, после разворачивания народной войны у них выстраивается иная система координат, и к этому их ведет автор. Перед Аус-терлицким сражением в душе Андрея Болконского соединяются две доминанты, поскольку русская армия находится в «безнадежном положении» (это «горестно»), но у него есть шанс «вывести русскую армию из этого положения», как это произошло у Наполеона под Тулоном (это «приятно») (Толстой; т. 4: 205). В Цареве-Займище Кутузов напоминает Болконскому его подвиг под Аустерлицем, говорит, что его дорога — это «дорога чести», но князь Андрей перед Бородинским сражением понимает, что есть «что-то сильнее и значительнее» воли Кутузова, и называет это «единомыслием» с народом (Толс той; т. 6: 182). Если перед Шенграбенским и Аустерлицким сражениями Андрей Болконский видит «беспорядок» и «бестолковщину» в русской армии (Толстой; т. 4: 209, 341), то накануне Бородинской битвы ситуация меняется. Беспорядок перед взятием Москвы был спровоцирован графом Растопчиным, ставшим инициатором расправы народа над Верещагиным. Сумасшедший, как в житиях юродивых и в трагедии Пушкина «Борис Годунов», указал «власть имущему» на его нравственную ошибку, вспомнив распятого Спасителя (Толстой; т. 6: 363).
-
С. Г. Бочаров вслед за Скафтымовым обнаруживает в сюжете романа проявление универсального этического закона: «Необходимость, судьба в "Войне и мире" образует "людские сцепления" в частной ли, в общей ли — исторической жизни людей, завязывает и развязывает отношения…» [Бочаров: 121]. С этой точки зрения исследователь рассматривает вроде бы «случайную» встречу Наташи Ростовой и Андрея Болконского во время войны 1812 г. Последний прошел через разочарование в Наполеоне и личной славе, он стал «нашим князем», которым «гордились» и которого «любили» офицеры и солдаты его полка ( Толстой ; т. 6: 128), и даже сумел простить своего личного врага-соперника Анатолия Курагина, увидев его страдания после тяжелого ранения. Наташа, увлеченная светской жизнью, ослепленная Элен Курагиной, находясь
Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка»… 117 во власти эгоистической страсти, решается изменить жениху, пойти против воли родителей, но затем начинает осознавать свой проступок, искренне раскаивается в том страдании, которое причинила князю Андрею. Во время отступления русских войск из Москвы Наташа останавливает мать, графиню Ростову, не желающую отдать телеги раненым. Торжество ее нравственного чувства, мысли о людях, которым они могут помочь, приводит героиню к встрече с Андреем Болконским: «Оба они — и Андрей, и Наташа, — далеко друг от друга, ничего друг о друге не зная, жизнью своей и поступками в страшную пору нашествия создавали тот уровень отношений, на котором необходимо должна состояться их новая встреча» [Бочаров: 117]. И. А. Есаулов обращает внимание, что встреча происходит после молитвы-мольбы Андрея Болконского [Есаулов: 111].
Телеологический сюжет в русском романе XIX в. связан с мотивом испытания героя, которое ставит его в ситуацию нравственного выбора: это защита и помощь нуждающимся или смирение и упование на волю Божию. Телеологический сюжет и готовность к самопожертвованию объединяет также Николая Ростова и Марью Болконскую, которая пишет подруге Жюли Карагиной о «страшных и священных тайнах провидения» ( Толстой ; т. 4: 122), думает о воле Бога, согласно которой она может стать женой и матерью ( Толстой ; т. 4: 279). Вместе с тем Толстой показывает, что ею движет нравственное чувство. Она останавливает брата, когда он начинает судить об отце, называя его «гордость мысли» «большим грехом» ( Толстой ; т. 4: 136). Она молится о князе Андрее и единственная из его близких не верит в его смерть [Есаулов: 105]. Ее молитва в церкви становится образцом для Николая Ростова [Есаулов: 106]. В ее лучистом взгляде во время встречи с Болконским, отмечает автор, светится «стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование» ( Толстой ; т. 7: 28). Когда княжна Марья в «косых лучах» солнца получает предложение отдаться на волю французов, она ощущает себя представительницей отца и брата и понимает, что это невозможно ( Толстой ; т. 7: 155–157).
Увлеченный кузиной Соней, Николай Ростов дает ей слово, что станет ее мужем. Но встреча с Марией Болконской сначала во время богучаровского бунта, а затем во время молебна в храме (Толстой; т. 7: 31), помощь беззащитной девушке и восхищение ее духовной красотой меняют планы героя. По словам С. Г. Бочарова, «Николай, брат Наташи, встречается с Марьей Болконской, и первое их знакомство, обстановка, в которой оно состоялось, все это настраивает их на мысль о "странной судьбе". А окружающих, прежде всего графиню Ростову, — на толки о Высшем Промысле» [Бочаров: 119–120]. В сложной ситуации выбора герой прибегает к помощи свыше. «Николай начинает молиться о том, чтобы Бог вывел его из этой путаницы, безвыходного положения. Он молится умиленно, как в детстве, с надеждой, что сейчас молитва исполнится. И она исполняется: тут же приносят письмо от Сони, освобождающей его от данного ей обязательства» [Бочаров: 123]. Провидение помогает в романе Толстого и этому герою.
Пьер Безухов также проходит период становления, совершая ошибки. Автор показывает свое отношение, свою негативную оценку решения Пьера связать жизнь с Элен Курагиной, подчеркивая, как в душе героя пробуждается плотская страсть:
«Он слышал тепло ее тела, запах духов и слышал скрып ее корсета при дыхании» ( Толстой ; т. 4: 260).
«Двойником» Пьера Безухова в романе становится Долохов. Он является такой же страстной натурой, как и Пьер: их объединяет увлечение Элен, а затем решение сражаться на дуэли. Ключевым словом, объясняющим потерю нравственных ориентиров, для Пьера становится «безобразие»:
«…что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе» ( Толстой ; т. 5: 25).
Состояние Безухова перед вызовом Долохова на дуэль еще два раза определяется этим словом ( Толстой ; т. 5: 26–27). В отношениях с Элен Безухов ощущает свое падение, поскольку, замечает автор, «Пьер принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда чувствуют себя вполне чистыми» ( Толстой ; т. 4: 264). После смерти «благодетеля», масона Базде-ева, Пьер вновь предается кутежам и осознает свою неправоту, поскольку, как пишет автор, он имел способность «русских
Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка»… 119 людей» «видеть и верить в возможность добра и правды» ( Тол стой ; т. 5: 308).
Выстроить систему ценностей Пьеру помогают Андрей Болконский (особенно важен их разговор во время переправы на пароме), Платон Каратаев и Наташа Ростова. Бородинское сражение показано глазами Пьера, для которого соединяются «косые лучи солнца и песня кавалеристов» под горой в Можайске ( Толстой ; т. 6: 199) и крестный ход с иконой Смоленской Божией Матери с торжественностью лиц солдат и ополченцев ( Толстой ; т. 6: 204).
Накануне решающего сражения возобновляются русские воинские традиции: ополченцы надевают шапки с крестами и белые рубахи, что символизирует чистоту их сердец и готовность предстать перед Высшим Судией в «белых одеждах праведников». Долохов и Безухов, Болконский и Безухов обмениваются «последним целованием» ( Толстой ; т. 6: 208, 219). В древнерусской воинской повести «Сказание о Мамаевом побоище» рассказывается о Куликовской битве, которая состоялась в Рождество Пресвятой Богородицы, и о традиции воинов целоваться перед прощанием: «…въ слезах и въсклицании сердечнем не могуще ни слова изрещи, отдавающе послѣднее цѣлование»5. Воины, как замечает древнерусский книжник, готовы испить чаши меда и есть гроздья виноградные («медвя-ныа чаши питии и сотеблиа виннаго ясти»6), т. е. готовы благодаря праведной смерти оказаться в Царствии Небесном. На эту же традицию «последнего целования» указывает Пушкин в «Капитанской дочке», когда описывает прощание капитана Миронова с женой:
«Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила» ( Пушкин ; т. 6: 163).
Общее настроение единодушия Безухов называет скрытым чувством «теплоты патриотизма» (Толстой; т. 6: 216, 218, 237), которое во время сражения на батарее Раевского превращается на лицах воинов в молнии «разгорающегося огня», — его чувствует в душе и сам Пьер (Толстой; т. 6: 243, 244). В решающий момент боя солнце «било косыми лучами прямо в лицо Наполеона» (Толстой; т. 6: 248), словно было на стороне русских войск. Образ солнца также является символом Божественной помощи в древнерусской словесности. В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, что князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой «солнце добрѣ сияетъ»7.
Благословление Дмитрий Донской получает от преп. Сергия Радонежского в день св. Флора и Лавра. В плену Пьер Безухов слышит от Платона Каратаева молитву св. Флору и Лавру ( Толстой ; т. 7: 53). По мнению О. В. Сливицкой, Платон Каратаев «одарил Пьера расширенным сознанием», после чего «были убраны преграды между душой Пьера и живой жизнью» [Сли-вицкая: 84]. Платон Каратаев открывает Пьеру возможность жизни по Евангельской Истине, он становится для главного героя «олицетворением духа простоты и правды», при этом в авторской речи повторяется слово «благообразие»:
«…главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия» ( Толстой ; т. 7: 55).
Встречи Андрея Болконского с Наташей, Марьи Болконской — с Николаем Ростовым, Пьера Безухова — с Платоном Каратаевым показывают сцепление судеб героев на фоне общей судьбы русского народа, решающим событием для которого становится Бородинское сражение. Битва на Бородинском поле происходит 26 августа 1812 г. (по новому стилю — 7 сентября). Князь Николай Болконский умирает 15 августа — в день Успения Пресвятой Богородицы. Соответственно, встречи героев происходят между Успением и Рождеством Пресвятой Богородицы. Толстой особенно отмечает дату 8 сентября (21 сентября), после которой происходит встреча Безухова с Каратаевым (Толстой; т. 7: 41). Авторы коллективной монографии «Феномен эпического романа» обращают внимание на молебен перед образом Смоленской Божией Матери и утверждают, что «Божественное Провиденье осеняет благодатью только верующий народ, связанный в единый организм христианской любовью» [Феномен эпического романа: 99]. Напомним, что в воинской повести перед боем всегда происходит молебен. Бородинское сражение и народное единение противопоставляется богучаровскому бунту, в котором обнаруживается «тень пугачевщины» [Феномен эпического романа: 87].
Перенос доминанты с себя на «лицо другого» происходит у Пьера Безухова также благодаря встрече с изменившейся Наташей Ростовой. Смерть Андрея Болконского, а затем гибель младшего брата и необходимость поддерживать мать, переживание личного и общего горя так меняют героиню, что Пьер ее сначала не узнает. Когда же он позволяет себе признаться, что любит ее, и видит возможность ответной любви, герой пребывает в таком состоянии счастья, что окружающие это чувствуют и ценят, даже старшая княжна и попавший в плен итальянец. Уже после этих событий Пьер размышляет о том, что все суждения, которые он составил о людях в этот период времени, остались для него верными навсегда ( Толстой ; т. 7: 243). Толстой включает в роман аллюзию на «Капитанскую дочку», используя прецедентное имя и прецедентную ситуацию. Пьер (Петр) спрашивает своего слугу Савельича (!), хочет ли он освобождения от крепостной зависимости, и слышит в ответ: «Зачем мне, ваше сиятельство, воля?» ( Толстой ; т. 7: 237).
В конце романа Пьер и Наташа создают семью, в которой преобладает «благообразие». Их беседа друг с другом переходит из внутренней речи во внешнюю, благодаря тому, что многие мысли героев разделяет автор, происходит диалог Толстого с читателем:
«— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала она, — о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?
Пьер нисколько не удивился этому вопросу. Он понял ход мыслей жены.
— Платон Каратаев? — сказал он и задумался, видимо искренне стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. — Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да.
— Я ужасно люблю тебя! — сказала вдруг Наташа. — Ужасно! Ужасно!
— Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав. — Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие, и я с гордостью показал бы ему нас» ( Толстой ; т. 7: 306).
Пророческий сон Петра Гринева создавался Пушкиным с ориентацией на очерк С. Т. Аксакова «Буран», который был напечатан в 1830 г. в журнале «Денница» (его сотрудником был Пушкин) [Путеводитель по Пушкину: 182]. Аксаков утверждал, что он описал в очерке подлинную историю, которая произошла в Оренбургской губернии с обозом подвод зимой во время бури. Хозяева подвод разделились на две группы: старики предлагали переждать буран, полагаясь на волю Божию и помощь человеческую, а молодые люди решили на своих конях найти дорогу. После того, как буран затих, утром другой обоз обнаружил засыпанных снегом стариков, и они были спасены, а тела молодых людей, не захотевших полагаться на волю Божию, были обнаружены весной, когда растаял снег.
В «Капитанской дочке» в сцене пророческого сна Гринева, который имеет ключевое значение в произведении, его семантика расширяется благодаря образам-символам. Из сна Гринева «выросли» сны героев Достоевского: Раскольникова до и после преступления (топор и кровь как символы надвигающегося насилия) и Мити Карамазова (дорога как символ судьбы). Движение кибитки по дороге показано как путь русского человека, как судьба России вообще:
«Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю» ( Пушкин ; т. 6: 408).
В романе Толстого есть замечание о том, что «солдат в движении так же окружен, ограничен и влеком своим полком, как моряк кораблем, на котором он находится» ( Толстой ; т. 4: 340). Перед описанием взятия Москвы Толстой замечает:
«Корабль идет своим громадным независимым ходом…» ( Толстой ; т. 6: 356).
Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка»… 123 В древнерусском искусстве корабль означает спасение, Церковь, Царство Божие на земле, что соответствует Псалтири: «И воз-зваша ко Господу, внегда скорбѣти имъ, и отъ нуждъ ихъ изведе я: и повелѣ бури, и ста въ тишину, и умолкоша волны его» (Пс. 106:28–29).
Таким образом, в романах Пушкина и Толстого семья, согласие, единение вокруг Евангельской Истины занимают центральное положение. Этическое учение А. А. Ухтомского предполагает изменение человека: он может или вернуться к себе прежнему, к сформированной у него в детстве доминанте, или перестроить себя заново. В декабре 1937 г. Ухтомский в одном из писем размышляет о самоутверждении, которое мешает выйти на уровень собеседования с другим человеком, чтобы постичь в нем Образ Божий: «Двойник становится как экран между человеком и его собеседником, подменяя последнего двойником <…>. И нужен обыкновенно немалый труд, прежде чем экран будет пробит к собеседнику в его подлинном содержании…» [Ухтомский: 176].
Народ можно рассматривать как соборную личность, в которой в кризисный момент испытания проявляется или доминанта, ведущая к самоутверждению, — «безобразие» (бунт, «бессмысленный и беспощадный»), или доминанта, определяющая его «благообразие» (народная война во имя спасения нации и ее религии). Русский роман XIX в., представленный образцовыми произведениями Пушкина и Толстого, обращает читателя к спасению. Телеологический сюжет включает мотив испытания народа или героя. Способность совершить нравственный выбор приводит его к расширению пространства, соединению временного и вечного в его сознании, при этом происходит символизация предметного мира (появляются образы движения и света). Этот сюжет может включать в себя мотив просьбы о помощи, который реализуется в молитве героя. О том, что молитва услышана, свидетельствует разрешение сложной ситуации, помощь Провидения. Однако выбор может означать и самоутверждение героя, что ведет его к понимаю «безобразия» происходящих в душе процессов. В этом случае он будет видеть вокруг себя «двойников». Оппозиция «безобразие» — «благообразие» раскрывает духовнонравственный идеал Пушкина и Толстого. Главным для народа и личности является соборное спасение. В процессе духовного очищения или духовного роста важную роль играет предание, которое сохраняет духовные доминаты русского народа. Такую доминанту несут герои Пушкина — Петр Гринев и Маша Миронова, герои Толстого — Андрей Болконский и Наташа Ростова. Сложнее искать свой путь героям, у которых не было перед глазами примера отца, живущего по нравственным законам, — это Пьер Безухов. Им помогают герои, несущие христианские идеалы (Платон Каратаев).
В романах Пушкина и Толстого прослеживаются традиции древнерусской воинской повести: провиденциальная концепция истории, ориентация на церковный календарь, молитва перед началом боя, «последнее целование», плач о погибшем воине и символы грядущего Царствия Небесного. Можно увидеть традиции агиографической литературы: указание юродивого на нравственную ошибку, свет как выражение духовного в личности. Народ (мiръ) в романах «Капитанская дочка» и «Война и мiръ» уподобляется семье или Церкви, обращенной к Евангельской Истине, и спасается Красотой Христовой.
trudov konferentsii [ VIII Maimin Readings : Collection of Conference Proceedings ]. Pskov, 2015, pp. 128–140. (In Russ.)
Список литературы Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Война и мир» Л. Н. Толстого
- Бахтин М. М. К исторической типологии романа // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. С. 199–209.
- Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М.: Худож. лит., 1987. 156 с.
- Бражников И. Л. Русская литература XIX–XX вв. Историософский текст. М.: Прометей: МГПУ, 2011. 240 с.
- Вершинина Н. Л. Пушкин и Толстой // Проблемы пушкиноведения: сб. науч. тр. Л., 1975. С. 144–149.
- Гей Н. К. Проза Пушкина: поэтика повествования. М.: Наука, 1989. 270 с.
- Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Томск: Водолей, 1997. 287 с.
- Гудонене В. Человек Достоевского и Толстого // Искусство психологического повествования (от Тургенева к Бунину). Вильнюс: Изд-во Вильн. гос. ун-та, 1998. С. 66–86.
- Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 288 с.
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2511 (07.07.2023). DOI: 10.15393/ j9.art.2001.2511
- Ибатуллина Г. М. Историософский миф в контекстах русской литературы XIX века: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой. М.: ФЛИНТА, 2022. 160 с.
- Кибальник С. А. Художественная философия Пушкина. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 199 с.
- Л. Н. Толстой и А. С. Пушкин: сопричастность идей, образов, судеб: мат-лы XXV Международных Тостовских чтений. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 1999. 320 с.
- Макогоненко Г. П. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Л.: Худож. лит., 1977. 108 с.
- Мелихов М. В. Древнерусские воинские повести: проблемы сюжетосложения и идейно-художественная трансформация жанра в литературной и рукописной традиции XV–XVIII вв.: автореф. … д-ра филол. наук. СПб., 2003. 32 с.
- Непомнящий В. С. Феномен Пушкина и исторический жребий России. К проблеме целостной концепции русской культуры // Пушкин и современная культура. М.: Наука, 1996. С. 31–70.
- Новикова Н. В. А. П. Скафтымов на пути к статье «Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого "Война и мир"» (подготовительные материалы) // VIII Майминские чтения: сб. тр. конференции. Псков, 2015. С. 128–140.
- Петрунина Н. Н. Проза Пушкина (пути эволюции) / отв. ред. академик Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. 334 с.
- Полтавец Е. Ю. Основные мифопоэтические концепты «Войны и мира» Л. Н. Толстого в свете мотивного анализа: дис. … канд. филол. наук. М., 2006. 198 с.
- Полосина Л. Н. Л. Н. Толстой и А. С. Пушкин: сравнительная история личных библиотек // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 160. Кн. 1. С. 17–28 [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/ln-tolstoj-i-as-pushkin-sravnitelnaya-istoriya_356828.html (07.07.2023).
- Путеводитель по Пушкину. СПб.: Академический проект, 1997. 432 с.
- Ремизов В. Б. Толстой и Достоевский. Братья по совести. М.: РГ-Пресс, 2019. 688 с.
- Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М.: Худож. лит., 1972. 543 с.
- Сливицкая О. В. «Война и мир» Л. Н. Толстого: проблемы человеческого общения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 192 с.
- Сорокина Т. Е. Современный русский роман как явление историософской идеи // Культурная жизнь Юга России. 2011. № 1 (39). С. 66–68.
- Страхов Н. Н. Литературная критика: сб. ст. / вступ. ст. и сост. Н. Н. Скатова, коммент. В. А. Котельникова. СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. 464 с.
- Тахо-Годи М. А. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Молодая сибирячка» Ксавье де Местра // Дарьял. 2004. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://www.darial-online.ru/material/2004_4-taho-god/?ysclid=lkw3r4vz8k619832470 (12.07.2023).
- Темяков В. В. Письма А. П. Скафтымова к П. Н. Сакулину // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2011. Т. 11. Вып. 3. С. 63–66 [Электронный ресурс]. URL: https://bonjour.sgu.ru/ru/articles/pisma-p-skaftymova-k-p-n-sakulinu (12.07.2023). DOI: 10.18500/1817-7115-2011-11-3-63-66
- Трофимова Н. В. Особенности формы и стилистики плачей в летописных воинских повестях // Вестник славянских культур. 2014. № 1 (31). С. 141–142 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-sk.ru/russian/archive/2014/1/nasledie-drevnej-rusi/trofimova (12.07.2023).
- Ухтомский А. А. Интуиция совести: письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб.: Петербургский писатель, 1996. 528 с.
- Феномен эпического романа в русской литературе второй половины XIX века: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский / В. Г. Андреева, А. В. Гулин, Н. Л. Ермолаева и др. под науч. ред. В. Г. Андреевой. Кострома: Изд-во Костромского гос. ун-та, 2022. 512 с.
- Эйхенбаум Б. М. Пушкин и Толстой // Литературный современник. 1937. № 1. С. 136–147 [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/ tolstoy/critics/eih/eih-167-.htm (12.07.2023).
- Christesen N. “Light” and “Enlightment” in Tolstoy’s Works // Proceedings and Papers of the 10th Congress; Held at the University of Auckland February 2–9, 1966. Auckland, 1966.
- Givens J. The Image of Christ in Russian Literature: Dostoevsky, Tolstoy, Bulgakov, Pasternak. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2018. 346 p.