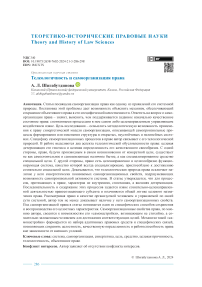Телеологичность и самоорганизация права
Автор: Шигабутдинова А.Л.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена самоорганизации права как одному из проявлений его системной природы. Постановка этой проблемы дает возможность объяснить механизм, обеспечивающий сохранение объективного права в его специфической качественности. Ответить на вопрос о самоорганизации права - значит, выяснить, чем поддерживается заданное изначально качественное состояние права: спонтанными процессами в нем самом либо целенаправленным управляющим воздействием извне. Цель исследования - осмыслить методологическую возможность применения к праву синергетической модели самоорганизации, описывающей самопроизвольные процессы формирования или изменения структуры в открытых, неустойчивых и нелинейных системах. Специфику самоорганизационных процессов в праве автор связывает с его телеологической природой. В работе выделяются два аспекта телеологической обусловленности права: целевая детерминация его генезиса и целевая определенность его качественного своеобразия. С одной стороны, право, будучи производным в своем возникновении от конкретной цели, существует не как самостоятельное и самодовлеющее наличное бытие, а как специализированное средство специальной цели. С другой стороны, право есть целенаправленно и целесообразно функционирующая система, качество которой всегда специализировано, приспособлено к достижению сознательно социальной цели. Доказывается, что телеологическая природа права исключает наличие у него синергетически понимаемых самоорганизационных свойств, подразумевающих возможность самопроизвольной активности системы. В статье утверждается, что для процессов, протекающих в праве, характерна не внутренняя, спонтанная, а внешняя детерминация. Последовательность и содержание этих процессов задается извне сознательно-целенаправленной деятельностью правосозидающего субъекта и подчиняется общей логике целевого назначения права. Рассматривая право в качестве организуемой человеком и управляемой по своей сути системой, автор тем не менее доказывает наличие у него самоорганизационных свойств. Под самоорганизацией права в статье понимается один из специфических способов сохранения и воспроизводства его целостных характеристик. Самоорганизационные свойства права, по мнению автора, сводятся к возможностям его «самонастройки», возникающим не стихийно, а сознательно заложенным человеком для достижения соответствующих целей. Механизм такой «самонастройки» формируется из набора адаптивных правовых средств и специфических связей, позволяющих сохранять целостность, качественную определенность и работоспособность права вне зависимости от внешних условий.
Система, самоорганизация, синергетика, цель, средство, целевая причинность, телеологичность, объективное право
Короткий адрес: https://sciup.org/143183497
IDR: 143183497 | УДК: 340 | DOI: 10.19073/2658-7602-2024-21-3-286-298
Текст научной статьи Телеологичность и самоорганизация права
Идея самоорганизации, зародившаяся в недрах кибернетики, вошла в проблемное поле системных исследований в середине XX в. и неуклонно расширяет сферу своего влияния, активно внедряясь в науки социально-гуманитарного цикла, в том числе юриспруденцию. За этим масштабным методологическим движением стоит осознание того, что сложные
системы различной природы способны трансформировать свою внутреннюю организацию, сохраняя при этом целостность и качественную определенность [1; 2]. Это открытие, надолго определив облик современного научного познания, вместе с тем породило широкий спектр подходов к самоорганизации, отражающих значительную разноречивость в философско-методологическом осмыслении этого явления [3; 4, с. 40].
В литературе обращается внимание на отсутствие не только единого понимания сущности самого феномена самоорганизации, но и общего взгляда на принципы его изучения, необходимого для построения единой концепции самоорганизующихся систем1. Современные представления о природе и механизме самоорганизации в сложных системах формируются в русле синергетической парадигмы, основанной на постулатах не-равновесности, нелинейности, возникновения «порядка из хаоса», выбора путей развития в условиях неопределенности и нестабильности2.
Самоорганизующимися в синергетическом смысле являются открытые и нелинейные системы, фундаментальными характеристиками которых выступают активное взаимодействие со средой и «многовариантность эволюции, возможность неожиданных изменений темпа и направления течения процессов, наличие так называемых точек бифуркации, точек ветвления путей эволюции, хаотическое поведение» [5, с. 6]. Самоорганизация таких систем есть спонтанный процесс, в ходе которого возникает, вос- производится или совершенствуется их организация3.
Иначе говоря, в основе синергетического взгляда на самоорганизацию лежит идея неоднозначности путей развития сложных систем, способных при определенных условиях самопроизвольно формировать или изменять свою структуру в пространстве присущих ей возможностей [6]. Система, способная к самоорганизации, т. е. самоструктурированию, саморегуляции и самовоспроизведению, в соответствии с синергетической моделью, сама, без внешнего управления, переходит на новый уровень организации и выбирает направление своего развития и функционирования, не подчиняясь какой-либо цели4.
Применима ли подобная модель самоорганизации для описания процессов, протекающих в объективном праве и определяющих сохранность его качественного своеобразия?
Следует заметить, что в последние десятилетия в отечественной юридической науке не раз высказывалась мысль о присущих праву самоорганизационных свойствах, взятых именно в синергетическом их понимании5 [7; 8].
В этом контексте право провозглашается «открытой системой, построенной на сложном процессе информационноэнергетического его обмена со средой, предполагающей вероятность нелинейного развития, возможность самоорганизации и диссипацию как способность отсеивать лишнее и чуждое или превращать его в свое за счет трансформирования и пере-конструирования»6.
По существу, юридическая наука, признавая за правом способность к самостоятельной перестройке своей внутренней организации, допускает вероятностный характер его динамики, непредсказуемость и многовариантность в его развитии, присущие естественным системам. Нетрудно заметить, что подобные конкретно-научные представления о самоорганизующейся природе права являются результатом прямого переноса синергетических идей, выработанных в ходе изучения физических процессов, в исследование иной по своей природе системы. Между тем при доказанной универсальности положений синергетики их приложение эффективно лишь в отношении определенного класса систем – открытых, неустойчивых и нелинейных. В этом смысле трудно согласиться с утверждением, что «она не терпит исключений и должна охватывать абсолютно все системные процессы, происходящие в мире» [9, с. 64].
Проблема состоит в том, чтобы ответить на вопрос о том, обладает ли право свойствами, характерными для данного класса систем. Отвечая на этот вопрос, на наш взгляд, нельзя упускать из вида едва ли не основополагающую с качественной точки зрения черту объективного права, которую можно было бы назвать телеологичностью .
Телеологическая детерминация генезиса права
Ключевой особенностью права как институционального регулятора выступает его четкая ориентированность на определенную цель, на конечный результат.
Категория цель прочно вошла в логикопонятийный аппарат юридической науки. Как полагает И. А. Кравец, использование понятия «цель» в исследовании самых разных проблем юридической науки придает им специфические очертания, которые позволяют вести речь о формирова- нии правовой телеологии, имеющей как общетеоретическое значение, так и разветвленное отраслевое значение (в различных отраслях права) [10, с. 203].
Проблематика телеологичности права отнюдь не нова. Она хорошо известна отечественной и зарубежной правовой мысли. Содержанием этой проблемы фактически охватывается два относительно самостоятельных вопроса: цель в праве и цель права. В первом случае предметом осмысления становится проявление и отражение в праве цели как неотъемлемого элемента реальной человеческой деятельности. Впервые подобным образом вопрос о цели в праве был поставлен Рудольфом фон Иерингом. До Иеринга, как утверждается, «никто не обращался к исследованию и обоснованию цели в праве» [11, с. 359]. Во втором случае телеологичность права рассматривается в широком социальном контексте, смещающем акцент на социальную цель, опосредующую возникновение и существование самого права. Именно в этом смысле телеологичность права исследуется в настоящей работе.
Объективное право является целенаправленно и целесообразно функционирующей системой, качество которой всегда специализировано, приспособлено к достижению сознательно поставленных целей.
Необходимость в такой системе вызывается противоречием между коренными общественными потребностями и неспособностью других социальных регуляторов их удовлетворить. Это противоречие задает цель, стоящую перед новой нормативно-регулятивной системой, а цель обусловливает природу средств, направленных на ее осуществление.
Таким образом, в процессе формирования правовой материи действует специфическая телеологическая закономерность, проявляющая себя двояким образом: как целевая детерминация права и как целевая определенность его качественного своеобразия. Говоря конкретнее, цель как необходимая составляющая правогенеза играет двойственную роль: с одной стороны, она выступает внешней по отношению к праву и независимой от него силой, запускающей механизм правообразова-ния; с другой стороны, целевой момент оказывается внутренним системообразующим фактором, глубоко интегрированным в собственное специфическое качество права.
В первом случае мы имеем дело с особой формой причинной зависимости права – целевой причинностью, при которой право в своем возникновении и существовании обусловливается конкретной целью. Взятая в таком отношении цель есть причина, с необходимостью вызывающая право к жизни. Будучи преобразованной в сознании человека глубинной социальной потребностью, цель не просто существует вне права и до права, предшествует ему во времени, она является исходным основанием, порождающим право7. Именно в таком значении «цель есть творческая сила всего права» [12, с. II].
Разумеется, целевая обусловленность права не может быть уложена в схему простой механической причинноследственной связи, действующей в мире природных объектов, с присущим ему господством так называемых телеомати-ческих процессов или «процессов, происходящих автоматически (пассивно) под влиянием некоторых внешних факторов» [13, с. 232].
Благодаря преломлению в специфической природе социальной реальности, универсальный порядок причинной детерминации модифицируется и усложняется вовлеченностью в причинные отношения свободной воли субъектов. Иначе говоря, действие причинности, детерминизма в целом здесь всегда обнаруживает себя через сознательно-волевую активность людей, которые ставят перед собой определенные цели и добиваются их достижения.
Для определения специфики причинной детерминации, действующей в общественных процессах, современная философия использует понятие «информационная причинность»8. К выработке этого понятия привело изучение самоорганизующихся систем (биологических, социальных, и в ряде случаев технических), изменения в которых причинно обусловливается не столько внешним физическим воздействием (переносом энергии и вещества), сколько получаемой информацией [14, с. 747]. «В сложных системах, – объясняя этот феномен, отмечает А. А. Крушанов, – происходит расчленение причинных сетей: от энергетических обособляется сигнальная, которая превращается в специфическую причинную сеть управления» [13, с. 244].
Таким образом, в решении вопроса о природе причинности, современная наука последовательно исходит из признания активности информации, способной независимо от физических свойств своего носителя, специфически, но абсолютно полноправно участвовать в процессе причинения и порождать определенные следствия [15, с. 79].
Цель, трактуемая как «идеальный образ, побуждение, субъективная форма будущего результата деятельности» [16, с. 277] всегда заключает в себе информационное начало. Являясь специфически человеческим восприятием объективной действительности, цель включает в себя, с одной стороны, знание того, что есть, а, с другой, представление о том, что должно быть. Иными словами, она представляет собой осознание объективной потребности и осознание того, что для ее удовлетворения еще необходима реальная деятельность [17, с. 48].
Siberian Law Review. 2024. Volume 21, no. 3 Телеологическая обусловленность качественного своеобразия права
Телеологическая природа права находит свое выражение не только в механизме его порождения, но и в содержании присущей ему системы качеств. В этом случае мы имеем дело со «служебностью» качественного своеобразия права, его глубокой специализированностью по отношению к конкретной цели.
В той мере, в какой обществу нужно достичь заранее заданной цели, оно отвечает этой потребности, вырабатывая специализированные для данной цели средства. Такие средства, являясь «порождением» соответствующей цели, воплощают в своем качественном состоянии ее содержательную специфику, подчиняют ей свои функционально-конструктивные особенности.
Средства, – подчеркивает Н. Н. Трубников, – характеризуют прежде всего ту цель, средствами которой они являются. Особенности таких средств выражают особенности соответствующих им целей [17, с. 71].
Право, будучи производным в своем возникновении от конкретной цели, существует не как самостоятельное и самодовлеющее наличное бытие, а как специализированное средство специальной цели [17, с. 71]. Оттого его качественные особенности, элементный состав и структура определяются содержанием порождающей его цели. Цель в этом случае играет роль специфицирующей причины – генетического фактора, вызывающего и обусловливающего качественное своеобразие, специфичность того или иного следствия9.
Возникая как средство реализации социально-практических целей10, право синтезирует в своем качественном
Таким образом, цель выступает производной от потребностей избирательной установкой, направляющей действия человека на преодоление выявленных недостатков действительности, «устранение такого положения вещей, которое определило цель» [17, с. 56]. В таком качестве цель проявляет себя как особая разновидность информационной причины, свойственная только человеческому существованию [16, с. 278].
Она является своего рода «пусковой пружиной», которая приводит в действие сознательные усилия человека по реализации поставленной цели, задавая конкретную траекторию его поведения и определяя выбор оптимальных, с точки зрения субъекта, средств. Механизм целевого причинения, иначе говоря, носит информационно-побудительный характер и связан с воздействием на интеллектуально-волевую активность человека. Руководимый намеченной целью, субъект конструирует либо вычленяет из совокупности уже существующих (материальных или духовных) объектов такие, которые отвечали бы критерию необходимости и достаточности для достижения его цели. Иначе говоря, оказываясь исходным пунктом деятельности человека, цель тем самым служит не только причиной будущего результата этой деятельности, но причиной создания средств, необходимых для ее осуществления.
Таким образом, действительный смысл телеологической обусловленности права состоит в том, что цель активизирует и координирует процесс формирования нового институционального нормативного регулятора как необходимого средства ее достижения.
Сибирское юридическое обозрение. своеобразии особенности обеих «переменных»: целевых установок и их адекватного инструментального обеспечения. Иначе говоря, качественное своеобразие права как системы реально обнаруживается не в его регулятивном потенциале, а в том, ради чего этот регулятивный потенциал используется, в тех глубинных социальных потребностях, удовлетворение которых потребовало создания специального регулятивного инструментария.
Здесь, выражаясь словами Н. Н. Трубникова, средство не столько выражает собственные черты, которые вуалируются особенностями целей, сколько черты и особенности тех целей, средствами которых они являются [17, с. 71].
В этом смысле системное качество права показывает не столько предметные характеристики образующих его нормативных предписаний, сколько «способность» этих нормативных предписаний служить специфическим целям. Такая способность не является имманентно присущим праву свойством. Она придается ему человеком, сознательно связывающим право с определенными целями социального управления.
С этой точки зрения право оказывается не естественной системой, качественная определенность которой складывается благодаря действию стихийных движущих сил объективного характера, а результатом творческой, духовно-преобразовательной деятельности человека, целенаправленно формирующего систему с заранее заданными свойствами и возможностями.
Эта особенность, являясь существеннозакономерной чертой права, в полной мере проявляется и в наиболее ранних его образцах. Хотя исторически первые формы бытия права вырастали на основе обычаев, отражавших практику повседневного поведения или инстинктивные побуждения, они представили собой не хаотическое нагромождение стихийно установившихся правил, а качественно новый регулятор, организованный путем сознательного отбора и признания этих обычаев со стороны государства.
В литературе справедливо подчеркивалось, что так называемое спонтанно рождаемое право «во всех случаях приобретает значение юридического феномена только тогда, когда оно освящено государственной властью»11.
Признание телеологической обусловленности права позволяет раскрыть сложное взаимодействие субъективного и объективного моментов в содержании его системного качества. С одной стороны, качественное своеобразие права, как и породившая его цель, объективно по своему происхождению, поскольку формируется людьми не произвольно, а на основе присущих обществу потребностей и закономерностей. С другой стороны, качественная определенность права всегда несет в себе элемент субъективности, поскольку создается, в конечном счете, именно человеком в соответствии теми целями, которые он сознательно ставит, его интеллектуальными возможностями и ограничениями.
Здесь, как представляется, открывается существенная особенность системного качества права – его субъективированность (не означающая при этом субъективизма). Право, являясь конструктом, создаваемым субъектом, опредмечивает, «объективирует» в своей качественной специфике заложенную в недрах его сознания свободу и субъективную целенаправленность.
Это означает, что право в его целостности и качественности формируется не как нормативный «слепок» с объективных условий общественного развития, по алгоритму «стимул–реакция», а как итог сознательного, свободного выбора и самоопределения субъекта, ищущего наиболее эффективные средства для достижения им самим поставленных целей.
Siberian Law Review. 2024. Volume 21, no. 3 альным запросам, потребностям или мировоззренческим идеалам.
При этом субъективированность качественного своеобразия права, подразумевая определяющую роль свободных действий субъекта в его созидании, отнюдь не сводится к произвольности. Как справедливо заметил М. Ф. Орзих, категория «свобода», используемая в теории права, призвана выразить степень свободы правотворчества в пределах социальной необходимости [19, с. 24].
Хотя конструирование права как институционального регулятора является актом свободного выбора конкретного субъекта, тем не менее этот выбор всегда осуществляется в исторически обусловленном спектре возможностей, доступных на той или той стадии развития общества. В этом и заключается диалектическая взаимообусловленность свободы и необходимости, направляющая правосозида-ние: самостоятельно и свободно создавая новый нормативный регулятор, человек с необходимостью подчиняется общим тенденциям общественного развития.
Осознание объективно сложившихся условий социального бытия становится в этом случае основой для целенаправленной правосозидающей деятельности человека. Иначе говоря, обладая способностью свободно выбирать цели и средства их реализации, субъект в конечном счете «выбирает ту линию поведения, которая для него обладает внутренней необходимостью в свете имеющегося в его распоряжении знания»13.
Специфика самоорганизационных свойств права
Неотъемлемой качественной характеристикой права выступает его динамичность.
Иначе говоря, правосозидаюшая ак-тивность12 человека, опосредуемая целеполаганием и самосознанием, осуществляется свободно, воплощая не столько действующую в природе диалектику закономерности и случайности, сколько незнакомое организационным процессам в природной среде отношение свободы и необходимости.
В системном качестве создаваемого институционального регулятора, таким образом, нет «фактичности», случайности, образуемой благодаря суммарному взаимодействию индивидов. Здесь господствует иной фактор – свобода воли и сознательная целенаправленность конкретных, а потому уникальных субъектов.
«Позитивное право, – писал С. С. Алексеев, – при всей существенности и императивности лежащих в его основе факторов (объективных императивов цивилизации, экономики, требований естественного права и др.), перед тем как “появиться на свет”, проходит фазу правотворчества, неизбежно преломляется через сознание и волю людей – законодателей, судей – творцов прецедентов» [18, с. 103].
Будучи зависимым от свободного целеполагания конкретного субъекта, качественное своеобразие права допускает историческую и национальную вариативность и изменчивость. Социальные субъекты, конструируя институциональный регулятор, позволяющий направить течение общественных процессов в определенное русло, руководствуются разными интересами, идеалами, ценностями, знаниями. Это позволяет предположить, что на системное качество права, управляемое свободной волей человека, можно влиять, подчиняя его определенным соци-
Право есть историческая, развивающаяся система, которая находится в непрерывном процессе становления и изменения своих параметров. Однако во всех своих морфологических и исторических модификациях право остается самим собою, сохраняя свое внутреннее единство и качественную определенность.
Морфологическая и историческая вариативность права неотделимы от его системности. Право – это социальный регулятор, для которого системность есть «врожденный» способ существования. Поэтому его историческая динамика не знает перехода от бессистемности к целостности, являясь постепенным развитием уже заложенных в нем системных свойств14. Иными словами, возникая как специфическая регулятивная система, право на протяжении всего своего существования постепенно движется от одного состояния структурной упорядоченности к другому, более совершенному. В этом смысле история права есть история имманентно системного образования, развертывающаяся как процесс его последовательного усложнения, как движение от низшего уровня организации к высшему.
При этом развитие права суть не са-моцельное движение институционального нормативного регулятора во времени, а телеологически обусловленный процесс повышения уровня организованности системы, обеспечивающий эффективность ее функционирования. Иначе говоря, исторические изменения элементного состава и структуры права носит целевой характер, подчиняясь общей логике его инструментального назначения.
Представляется, что объективное право как институциональный регулятор, целенаправленно сконструированный человеком для достижения определенных целей, уже в силу телеологической обу- словленности его генезиса не может развиваться в неподконтрольном человеку направлении. Создавая специализированную для конкретной цели систему, субъект рассчитывает, что ее движение будет протекать в заранее заданных для нее параметрах.
Как справедливо заметил В. Г. Мальцев, «общественное развитие слишком часто находится в нестабильном состоянии, в нем много неполадок и срывов, но право должно придавать ему устойчивые формы, сохранять и поддерживать именно те порядки, которые наилучшим образом отвечают интересам людей. С этими задачами право некогда появилось в обществе, им оно служило на протяжении всей своей истории, а в будущем по мере возрастания сложности социальных структур способность права вносить порядок, определенность, надежность, безопасность, предсказуемость, устойчивость в общественные отношения будет цениться чрезвычайно высоко» [20, с. 115].
С этой точки зрения признание за правом синергетически понимаемых само-организационных свойств, подразумевающих возможность самопроизвольной активности системы, ставит по сомнение его глубинную природу как средства, призванного не допустить неуправляемость и непредсказуемость течения общественных процессов.
«Право, – справедливо пишет Ю. Ю. Ве-тютнев, – по своей сути нацелено как раз на устранение элементов самоорганизации из определенной системы путем установления неких “правил игры”, органически не вытекающих из ее существа» [9, с. 64].
Поэтому задача юридической науки – выявлять содержание закономерностей, управляющих поддержанием системного качества права, а не механически распространять законы самоорганизации естественных природных и социальных систем на процессы, протекающие в сконструированной человеком системе.
Очевидные методологические трудности, возникающие при первых же попытках применения синергетических принципов к теоретическому познанию объективного права, приводя к разочарованию в их эффективности, заставляют бросаться в другую крайность и вообще отказывать праву в свойстве самоорганизации [21, с. 40].
Объективное право, являясь организуемой человеком и управляемой, по своей сути, системой, тем не менее не лишено элементов самоорганизации. Однако природа самоорганизации здесь глубоко специфична, она отличается от самоорга-низационных свойств неинституциональных социальных регуляторов, содержание которых вырабатывается в стихийном опыте масс.
Думается, что при решении вопроса о природе и особенностях самоорганизации права следует исходить из того, что самоорганизация есть один из способов сохранения целостности системы15. В этом смысле мы можем рассматривать право как систему, обладающую собственным способом и механизмом сохранения и воспроизводства ее целостных характеристик.
При этом ключевая особенность само-организационных свойств права связана с их зависимостью не от объективных факторов и от случайностей в социальной среде, а от свободы воли субъектов, сознательно закладывающих возможности для «самонастройки»16 права. Несмотря на то что право социально по своему происхождению, оно не просто часть общества, подчиненная происходящим в нем стихийным процессам17, а институциональный нормативный регулятор, формируемый целенаправленными действиями специальных субъектов.
Поэтому внутренний механизм самоорганизации возникает здесь не самостоятельно, а программируется человеком для достижения соответствующих целей и обеспечиваются специальными средствами. Конкретные формы и пределы «самонастройки» права, определяемые его инструментальным назначением, носят телеологически обусловленный, «служебный», характер и направлены на обеспечение способности права быть средством конкретной цели. По существу, механизм самоорганизации права формируется как набор адаптивных правовых средств и специфических связей, позволяющих сохранять его целостность, качественную определенность и работоспособность вне зависимости от внешних условий.
Речь идет о группе правовых средств, выполняющих в процессе правового регулирования «вспомогательные» функции. Регулятивный потенциал такого инструментария непосредственно не связан с установлением моделей должного или дозволенного поведения. Их основное назначение состоит в формировании внутреннего единства права, устранении или преодолении проявлений дезорганизации, нарушений целостности, разорванности, возникающих в ходе действия иных элементов права.
В зависимости от содержания выполняемых ими функций средства «самонастройки» права могут быть дифференцированы (весьма условно) на две большие группы. Первая – это правовые средства, направленные на первичное конструирование внутренней организации права. Это средства-«связки», задающие межотраслевую и внутриотраслевую согласованность правовых норм. В качестве таковых могут быть рассмотрены принципы права, правовые дефиниции, бланкетные нормы и прочие. Вторую группу образуют правовые средства, задачей которых является сохранение системности и устранение асистемности права. В эту группу включается правовой инструментарий, позволяющий восполнить пробелы в правовом регулировании и обеспечивающий разре- шение противоречий между правовыми нормами.
Заключение
Главный вывод состоит в необходимости признать: к праву неприменимо положение синергетики о саморазвитии системы как процесса, управляемого внутренними, имманентными этой системе силами. Телеологичность как неотъемлемая черта качественного своеобразия права существенно ограничивает протекающие в нем процессы самоорганизации. Для изменений, происходящих в праве как качественно своеобразном феномене, характерна внешняя детерминация. Последовательность и содержание этих изменений навязывается извне сознательно-целенаправленной деятельностью существующей высокоорганизованной системы – государства. Таким образом, исторический процесс развития системности права, понимаемый как преобразование его внутренней организации, оказывается связанным с возраставшей от ступени к ступени ролью государства.
Список литературы Телеологичность и самоорганизация права
- Comfort L. Self-Organization in Complex Systems // Journal of Public Administration Research and Theory. 1994. Vol. 4, iss. 3. P. 393-410.
- Keller E. F. Organisms, Machines, and Thunderstorms: A History of Self-Organization. Part Two. Complexity, Emergence, and Stable Attractors // Historical Studies in the Natural Sciences. 2009. Vol. 39, iss. 1. P. 1-31. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/hsns.2009.39.1.1
- Anderson C. Self-Organization in Relation to Several Similar Concepts:Are the Boundaries to Self-Organization Indistinct? // Biological Bulletin. 2002. Vol. 202, no. 3. P. 247-255. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1543475
- Zhang W. Selforganizology: The Science of Self-Organization. Singapore: World Scientific, 2016. 404 p. DOI: https://doi.org/10.1142/9685
- Алдонин Г. М. Структурный анализ самоорганизующихся систем: моногр. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 344 с.
- Saha T., Galic M. Self-Organization Across Scales: from Molecules to Organisms // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2018. Vol. 373, iss. 1747. P. 1-9. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0113
- Брежнев Д. М. Конфликты и компромиссы как детерминанты самоорганизации права: синергетический аспект // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3 (49). С. 27-36.
- Павлушина А. А., Лошкарев А. В. Системность права и синергетика: общетеоретические проблемы // Правовая политика и правовая жизнь. 2018. № 1. С. 8-14.
- Ветютнев Ю. Ю. Синергетика в праве // Государство и право. 2002. № 4. С. 64-69.
- Кравец И. А. Телеологический конституционализм, конституционная идентичность и публичный правопорядок (научное знание, российский, сравнительный и международный контексты) // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 439. С. 202-215. DOI: https://doi.org/10.17223/15617793/439/28
- Касаева Т. Г. К постановке вопроса о цели в праве по воззрениям Р. Иеринга // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2017. Т. 17, вып. 3. С. 359-363. DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2017-17-3-359-363
- Иеринг Р. Цель в праве: в 2 т. СПб.: Н. В. Муравьев, 1881. Т. 1. 412 с.
- Крушанов А. А. Понятие «управление» в кибернетическом контексте // Vox. Философский журнал. 2017. Вып. 23. С. 220-279. DOI: https://doi.org/10.24411/2077-6608-2017-00020
- Дубровский Д. И. Проблема свободы воли и современная нейронаука // Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. 2017. Т. 67, № 6. С. 739-754. DOI: https://doi.org/10.7868/S0044467717060089
- Лисин А. И. К вопросу о природе (сущности) информации // Стратегические приоритеты. 2015. № 3 (7). С. 67-82.
- Гендин А. М. Специфика целевой детерминации деятельности // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2012. № 5 (64). С. 276-280.
- Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М.: Высшая школа, 1968. 148 с.
- Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Норма, 2002. 608 с.
- Орзих М. Ф. Содержание методологии юридической науки // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1973. № 1. С. 17-24.
- Мальцев Г. В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 800 с.
- Антонов М. В. О системности права и «системных» понятиях в правоведении // Правоведение. 2014. № 1 (312). С. 24-42.