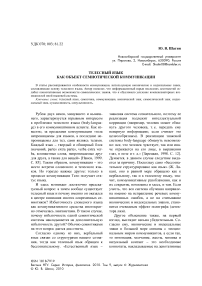Телесный язык как объект семиотической коммуникации
Автор: Шатин Юрий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности коммуникации, использующие иконические и индексальные знаки, составляющие основу телесного языка. Автор полагает, что информационный взрыв последних десятилетий ослабил коннотативнные возможности символических знаков, что и обусловило усиление компенсанаторных возможностей иной языковой системы.
Телесный язык, семиотика, коммуникация, иконический знак, символический знак, индексальный знак, сукцессивность, симультанность
Короткий адрес: https://sciup.org/14737334
IDR: 14737334 | УДК: 070;
Текст научной статьи Телесный язык как объект семиотической коммуникации
Рубеж двух веков , минувшего и нынеш него , характеризуется взрывным интересом к проблемам телесного языка (body-language) в его коммуникативном аспекте . Как из вестно , за пределами коммуникации « тела непроницаемы для языков , а последние не проницаемы для тел , сами являясь телами . Каждый язык – твердый и обширный блок значений , partes extra partes, verba extra verba, компактные слова , непроницаемые друг для друга , а также для вещей » [ Нанси , 1999. С . 85]. Таким образом , коммуникация – это место встречи словесного и телесного язы ков . Но гораздо важнее другое : только в процессе коммуникации Тело получает ста тус языка .
И здесь возникает достаточно предска зуемый вопрос : а зачем вообще существует телесный язык и почему именно он оказался в центре внимания многих современных се миотиков ? Избыточность словесного языка как коммуникативного средства многократ но отмечалась лингвистами . В таком случае , почему избыточность одной семиотической системы накладывается на дополнительную избыточность другой ? Обычно семиотиками на этот вопрос дается два ответа .
Согласно одному из них, вербальный язык связан со структурами нашего сознания, тогда как телесный язык обращен к бессознательному. «Естественный язык – знаковая система сознательного, поэтому ее реализация подлежит интеллектуальной коррекции (например, человек может обмануть другого человека, т. е. передать ему неверную информацию, если считает это целесообразным). В реализации знаковой системы body-language обмануть невозможно: все, что человек чувствует, так или иначе отражается на его лице, в выражении глаз, в позе и т. д.» [Зарецкая, 1998. С. 12]. Думается, в данном случае следствие выдается за причину. Поскольку само «бессознательное структурировано как язык» (Ж. Лакан), оно в равной мере обращено как к вербальному, так и к телесному языку, значит, коммуникативные разоблачения, как и их сокрытие, возможны и здесь, и там. Если учесть, что вся система обучения направлена именно на исправление речевых коммуникативных ошибок, а не на считывание иконических и индексальных знаков, становится очевидным эффект полиграфа (детектора лжи).
Другое объяснение также , на первый взгляд , выглядит весьма убедительным . Со гласно ему , иконические и индексальные знаки в большей мере связаны с эмоцио нальным миром коммуникантов , а если так , то интонация , молчание , жесты , мимика и визуальный контакт – это необходимые коннотаты , накладываемые на денотативные
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 6: Журналистика © Ю. В. Шатин, 2010
значения вербальных , символических зна ков . Сам факт повышенной коннотации те лесного языка сомнению не подлежит , од нако в качестве объяснительного принципа принять его трудно . Ведь более чем за два тысячелетия , прошедших со времени изо бретения , риторика выработала такое коли чество тропов , фигур и способов их комби нации , что они с лихвой покрывают все возможные коннотаты .
Представляется , что как неосознанный , так и сознательный сдвиг в сторону телес ного языка связан не с объективными , а с субъективными причинами и имеет скорее не логико - лингвистическое , но семиотиче ское обоснование . В условиях информаци онного бума нагрузка на систему символи ческих знаков оказалась настолько сильной , что сознание современного человека отве тило на нее тотальной десимволизацией . Некоторые ученые даже полагают , что му тации генов , ставшие в свое время причиной эволюции видов , сменилась ныне « мутацией в мнемах », т . е . в единицах культурной ин формации , которая распространяется от человека к человеку посредством знаков – символов . При этом десимволизацию не сле дует понимать как количественное уменьше ние символических или увеличение икони - ческих и индексальных знаков . Изменению подвергаются не парадигмы и синтагмы вербального и телесного языков , но их зна чимости , ценности и связанные с ними ком муникативные установки . Как справедливо заметил У . Эко , « если обстоятельства спо собствуют выявлению кодов , с помощью которых осуществляется декодификация сообщений , то урок , преподанный семиоло гией , может заключаться в следующем : прежде чем изменять сообщения или уста навливать контроль над их источниками , следует изменить характер коммуникатив ного процесса , воздействуя на обстоятель ства , в которых получается сообщение » [ Эко , 1998. С . 415]. Тексты культуры на ру беже веков остались прежними , или , вернее , почти прежними , изменился характер их чтения благодаря вновь открывшимся об стоятельствам .
Сегодня, когда мы видим рисунки на телах людей в наушниках, из которых льется музыка, мы понимаем, что рисунки и музыка могут оставаться прежними: изменяются не знаки, но коммуникативные установки, словесная коммуникация начинает представлять меньший интерес, чем два десятилетия тому назад, зато автокоммуникация, в основу которой положены иконы и индексы, выходит на авансцену публичного поведения. Интерес представляет не то, что один человек может сообщить другому, но сам способ пользования человеком разнообразными знаковыми системами.
Вместе с тем встает другой вопрос : су ществовали ли , помимо естественного язы ка , внешние источники культуры , изменив шие семиотику бытовой коммуникации , выдвинув знаки телесного языка на первый план ? Не претендуя на решение этой про блемы в полном объеме , можно сказать , что один из источников такого изменения хо рошо известен и связан с опытом эстетиче ской коммуникации в театре и кино первых десятилетий XX в . При этом мы вовсе дале ки от мысли о прямом влиянии одного типа коммуникации на другой , как и от утвер ждения , что процесс этот носил управляе мый или осознанный характер . Просто одно случилось раньше , другое – позже , и это значит , что это другое не могло произойти без участия эстетической коммуникации , поставившей под сомнение силу слова и попытавшейся придать соответствующим жестовым , мимическим и интонационным координатам роль смысловых величин .
Вряд ли будет преувеличением сказать , что реабилитация иконического и индек - сального знаков как способа коммуникации средствами телесного языка находилась в тесной связи с развитием кинематографа . Изобретение братьев Люмьер 1895 г . было чисто техническим достижением , однако уже 20 лет спустя открытие коммуникатив ных возможностей кадра и монтажа дало возможность говорить о семиотике кино языка .
В работе « Семиотика кино и проблемы киноэстетики » Ю . М . Лотман указал на двойственную природу знака в кинемато графе . « Кадр как дискретная единица имеет двойной смысл : он вносит прерывность , расчленение и измеряемость и в кинопро странство , и в киновремя . При этом , по скольку оба эти понятия измеряются одной единицей – кадром , они оказываются взаи - мообратимыми » [1973. С . 33].
Здесь вполне уместно провести аналогию между кинокадром и стихом как единицей стихотворной речи . Стих является пересе чением симультанности и сукцессивности . Как симультанность он характеризуется са модостаточностью и отделенностью от дру гого стиха ( обязательностью паузы в конце стиха и особой графикой на письме ). В то же время как сукцессивность он требует аналогии с другим стихом . Таким образом , только взаимообратимость симультанности и сукцессивности делают стих стихом , от личают его от прозаической речи . Фраза пушкинского стиха « Ее сестра двоюродная Вера Ивановна , супруга гоф - фурьера » при выделении enjambment’ а звучит как стих , а при отсутствии – воспринимается как проза , несмотря на стихотворный размер и рифму .
Кадр всегда есть пауза , поставленная в тексте независимо от синтагмы и подчерк нутая жестом по отношению к плану или ракурсу . Усиление иконического или индек - сального знака в сравнении с фразами вер бального языка сделали кино , особенно в его дозвуковой период , важнейшим сред ством десимволизации повседневной речи . Этот эффект впервые был описан Ю . Н . Ты няновым в статье « Об основах кино »: « Кадр – такое же единство , как фото , как замкнутая стиховая строка . В стихотворной строке по этому закону все слова , составляющие строку , находятся в особом соотношении , в более тесном взаимодействии ; поскольку смысл стихового слова не тот , другой в сравнении не только со всеми видами речи , но и по сравнению с прозой . При этом все служебные словечки , все незаметные второ степенные слова нашей речи становятся в стихах необычайно заметны , значимы » [2001. С . 49].
При этом иконический знак, инкорпорируясь в кинематографический текст, не только стремится к разрушению логоцентрического повествования, но и становится средством означивания – принадлежности текста тому или иному жанру. По точному наблюдению М. Б. Ямпольского, «скульптурная метафора участвует в размежевании раннего кино на высокие и низкие жанры. Это размежевание осуществляется отчасти на основе мимики и позирования. Высокие жанры кинематографа – историческая дра- ма, трагедия, светская мелодрама отдают предпочтение позе, жесту и “неподвижности”. Особенно характерно это для русского дореволюционного кино. Здесь реже, чем в комическом, встречаются крупные планы лиц. Именно фарс предполагает широкий спектр всевозможных гримас – основного проявления мимики на экране. При этом фарс почти никогда не использует статуарного позирования» [2004. С. 150].
Выявив основной эффект коммуника ции – десимволизацию ( замену опосредо ванного слова , « изображающего » событие , непосредственно изображенным кадром ), кино активно и агрессивно попыталось рас пространить новый тип взаимодействия на смежные искусства , прежде всего , на театр . Так , в 1923 г . тогда еще молодой и недоста точно известный С . Эйзенштейн в статье « Монтаж аттракционов » постарался распро странить особенности « коммуникации с по мощью телесного языка » на природу театра : « Аттракцион в формальном плане я уста навливаю как самостоятельный и первич ный элемент конструкции спектакля – молекулярную ( то есть составную ) единицу действенности театра и театра вообще . В полной аналогии – “ изобразительная заго товка Гросса или элементы фотоиллюстра ции Родченко ”» [1964. С . 271]. Спустя деся тилетия манифест раннего Эйзенштейна производит двойственное впечатление . Лег ко видеть , что автор в своих рассуждениях фактически отказал драматическому театру в специфике его языка , растворив его в язы ках смежных искусств . Об этом он говорит и сам : « Школой монтажера является кино и главным образом мюзик - холл и цирк , так как , в сущности говоря , сделать хороший ( с формальной точки зрения ) спектакль – это построить крепкую мюзик - холльную игровую программу , исходя из положений взятой в основу пьесы » [ Там же . С . 271].
В сущности, то, о чем мечтает будущий кинорежиссер, применительно к театру, не является монтажом, а представляет собой коллаж, что особенно видно на примере анализа финала «Мудреца» (по пьесе А. Н. Островского), данного в статье. Ведь если воспользоваться разграничением П. Па-ви, «монтаж придает действию определенную направленность и смысл, в то время как коллаж ограничивается столкновением раз- личных элементов в определенных точках пространства, что приводит к возникновению эффекта смысловой «рассеянности» [Пави, 1991. С. 193].
Вместе с тем и по прошествии времени манифест Эйзенштейна сохраняет глубокий смысл . В основе статьи Эйзенштейна , несо мненно , лежал пафос преодоления литера турности современного ему театра . Пафос преодоления литературности ощущался со временниками Эйзенштейна , весьма дале кими от идей левого искусства . Так , в том же 1923 г . О . Мандельштам , характеризуя русскую интеллигенцию , писал : « Для всего поколения характерна была литература , а не театр … Театр понимали исключительно как истолкование литературы . В театре видели толмача литературы , как бы переводчика ее на другой , более понятный и уже совершен но свой язык » [1995. С . 252].
Следует отметить , что радикализм пози ции « тоскующего о мировой культуре » Мандельштама в минимальной степени оп ределялся его личным вкусом , но имел бо лее глубинную природу , связанную с се миотическими аспектами коммуникации . Всякий перевод художественного слова ли тературы средствами выразительного слова театра грешит не простым удвоением , но разрушением самой коммуникации , по скольку обедняет и выпрямляет многознач ность смыла либо посредством уничтожения эффекта стихотворной речи , либо путем экспроприации речи прозаической так на зываемым « вчувствованием » актера . Един ственный способ представления художест венной речи на сцене был связан с механизмами семиотического взаимопере - вода символических знаков в индексальные и иконические , а это , в свою очередь , ока зывалось невозможным без учета паралин гвистических , в том числе и телесных , осо бенностей языка .
Как заметил П. Брук, «текст заключает в себе некий шифр. Слова, написанные Шекспиром, – это письменные обозначения тех слов, которые он хотел слышать в виде звуков человеческого голоса определенной высоты, с определенными паузами, в определенном ритме, в сопровождении жестов, также несущих определенную смысловую нагрузку» [1976. С. 40]. Вот почему, полагает автор, «непрекращающаяся дискредита- ция тех сторон драматургии, которые не имеют непосредственного отношения к театру, помогает более правильной оценке других ее качеств – действительно более тесно связанных именно с театром и существенных именно для него» [Там же. С. 74].
Таким образом , если взглянуть на приро ду коммуникации с точки зрения ее семио тической составляющей за последние 90 лет , можно отметить важный момент , который был связан с потерей доверия к слову и вы звал в итоге десимволизацию повседневной речи . Последняя , которая проявилась , с од ной стороны , во все более усложняющихся и специализирующихся системах метаязыков , непонятных за пределами той или иной спе циальности , с другой – в отказе от претен зий повседневных дискурсов на трансляцию истины . Компенсирующим механизмом де символизации становится все более возрас тающая речь телесного языка , открывающе го новые горизонты коммуникации .
Вполне естественно предположить , что художественный дискурс определил другие интенции в этом направлении . Но , что самое интересное , по мере внедрения нового ре пертуара иконических и индексальных зна ков именно кино и театр занимают место в иерархии искусств , раньше безраздельно принадлежавшее литературе , что , несо мненно , свидетельствует о том , что мы жи вем в новую семиологическую эпоху , прин ципиально не соизмеримую с эпохой начала прошлого века .
BODY LANGUAGE AS THE OBJECT OF SEMIOTICAL COMMUNICATION