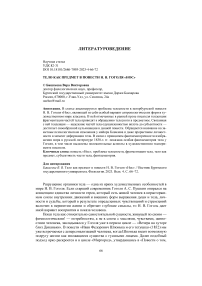Тело как предмет в повести Н. В. Гоголя «Нос»
Автор: Башкеева В.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема телесности в петербургской повести Н. В. Гоголя «Нос», являющей из себя особый вариант антропологических форм в художественном мире классика. В ней отмеченные в ранней прозе писателя тенденции фрагментации частей тела приводят к обращению телесного в предметное. Связанная с ней тенденция - наделение частей тела одушевленностью вплоть до субъектности - достигает своеобразной кульминации в данной повести. Обращается внимание на заметные психологические изменения у майора Ковалева и даже прорастание личностности в момент деформации тела. В связи с принципом фантасмагоричности изображения мира в русской литературе 1830-х гг. показана особая фантасмагория тела у Гоголя, в том числе выделены положительные аспекты в художественном эксперименте писателя.
Повесть «Нос», проблема телесности, фрагментация тела, тело как предмет, субъектность части тела, фантасмагория
Короткий адрес: https://sciup.org/148328067
IDR: 148328067 | УДК: 82-31 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-4-66-72
Текст научной статьи Тело как предмет в повести Н. В. Гоголя «Нос»
Башкеева В. В. Тело как предмет в повести Н. В. Гоголя «Нос» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 4. С. 66‒72.
Разрушение органики тела — одна из ярких художественных особенностей в мире Н. В. Гоголя. Если старший современник Гоголя А. С. Пушкин опирался на концепцию единства личности героя, который есть живой человек в нерасторжимом союзе внутренних движений и внешних форм выражения души и тела, личности и судьбы, который в результате определенных чувствований и стремлений включен в перипетии жизни и обретает глубокие смыслы, то Н. В. Гоголь дает иной вариант восприятия и показа человека.
Показ тела как относительно самостоятельной сущности, живущей по своим — физиологическим! — потребностям, а не в союзе с мыслями, чувствами, ценностями человека, закладывался у Гоголя уже в первом цикле — «Вечера на хуторе близ Диканьки». В повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832) мы уже встречаемся с деперсонализацией человека, когда Шпонька видит возможную подругу жизни как множащиеся существа с гусиными лицами. Далее подобный подход ярко раскроется и в цикле «Миргород», утвердившись в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834). В ней внешнее отвяжется от внутреннего, внутреннее сведется к примитивным инстинктам и ограничится общежитейскими установлениями социума. Тело не просто заслонит душу, но утвердится как важнейшая форма представления человека.
Доминанта тела, телесного начала в его отрыве от внутреннего человека в указанных повестях классика проявляется в двух направлениях редукции — акцентировании физиологических проявлений и фрагментации тела, членении его на относительно автономные части. Акцентирование физиологического выражено во включении в русский художественный текст первой трети XIX в. новых портретных форм — тактильных ощущений, различных посапываний, храпа, сморкания, создания иных, негармоничных, антимузыкальных, особенно в сравнении с современной Гоголю светской романтической повестью, шумов. Подчеркивается плоть тела, имеющего большой объем, массу, толщину, или выделяются его формы, сопоставляемые с предметами домашнего обихода и быта — кофейником, чернильницей, бричкой.
Фрагментация тела связана с разделением его на относительно автономные части, живущие своей жизнью, обладающие определенной субъектностью. Таковы страшная рука, лицо с оспинами, кашель учителя латинского языка в повести о Шпоньке; или ноздри, губы, лицо, осанка, ноги миргородского городничего, должного исчерпать конфликт между двумя Иванами. Фрагментация тела ведет к разрушению природности, органичности тела как формы воплощения человека, является в конечном итоге показателем кризиса человечности. «Раздробленной телесностью» называет это А. С. Смирнов [11, с. 97].
Степени более высокого обобщения данная тенденция достигнет в петербургских повестях. В «Невском проспекте» (1835) части тела, впрочем как и детали одежды, начнут символически замещать человека: черные бакенбарды чиновников иностранной коллегии, рыжие бакенбарды чиновников других ведомств, усы различных профессоров, дамские талии явятся заменой, едва ли иронической, человека. На выставке Невского проспекта представлены как экспонаты «лучшие произведения человека» (курсив мой. — В. Б.) — «греческий прекрасный нос», «пара хорошеньких глазок», «ножка в очаровательном башмачке» [4, с. 13] и др. Так представляемое тело, конечно, подчиняет природное социальным, нерукотворное — общежитейским установлениям успеха, карьеры, выгоды.
Кульминации данная тенденция отказа от природного, живого начала в изображении тела достигнет в повести «Нос» (1836). Нас интересует не просто рино-логическая тема, которой правомерно посвящен не один труд филологов разных поколений [1–3 и др.], или другие важные интерпретации петербургских повестей Гоголя [6; 7 и др.]. О. Дилакторская дает объективную интерпретацию реальнобытового материала эпохи, который должен «вскрыть нелепость и нескладность самой действительности, покоящиеся на государственных законах и постановлениях, бюрократической иерархии, бюрократических правилах, раз и навсегда неизменном, порядке, неестественно сковавшем своевольную, непредсказуемо развивающуюся жизнь» [6]. В статье А. Дунаева содержится необыкновенно глубокая мысль, которая может принципиально изменить в дальнейшем трактовки гоголевской повести: «Нос оказывается подходящим камуфляжем для самого дья- вола в гоголевской повести» [7]. Сейчас нас интересует несколько иное: как писатель развивает тенденции наделения частей тела вещностью, предметностью, с какими другими особенностями это сочетается и как соотносится с отдельными особенностями культурной жизни.
Повесть «Нос» обрамлена в начале и в конце изображением носа как вещи, как предмета. В начале повести, когда цирюльник находит нечто в хлебе, нос характеризуется через цвет («что-то белевшееся»), субстанцию («плотное»), действия с ним — его можно потрогать пальцем, его надо срочно завернуть в тряпку, куда-то вынести, уронить и т. д. Нос по сути здесь похож на гладкий камешек, нет следов болезненного устранения его с лица. Случившаяся деформация человеческого тела будет разворачиваться дальше.
В конце повести предметность носа еще более усилена. Он принесен квартальным надзирателем, завернут в бумажку, «был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка» [4, с. 86] — «тупая материальная вещь» [1, с. 128]; доктор предлагает его заспиртовать и продать. Усилившаяся предметность носа, его потенциальное усыхание, конечно, фантасмагоричны. Исследователь, занимающийся проблемой предметного мира, суммирующий работы гоголеведов, констатирует метод «вещного загромождения героя» [8].
Опредмечивание части тела сравнительно ново для прозы Гоголя и в целом уникально в его мире. При этом оно по внешнему контрасту сочетается с одушевлением носа, вплоть до персонификации: в середине повествования нос действует как живое существо, как субъект. На уровне языкового стиля уже «в репликах Прасковьи Осиповны впервые мелькнуло отношение к носу как к одушевленной субстанции» [3, с. 31]. Субъектность носа не менее фантасмагорична, ибо это есть превращение части человеческого тела и в человека вообще, и в чиновника с чином статского советника в частности. Нос совершает определенные, вполне осмысленные действия, деятельно включается в круговорот петербургской жизни, даже готовится бежать в Ригу.
Близкий, но не аналогичный пример наблюдается в повести «Записки сумасшедшего». В дневниковой записи Поприщина «Мадрид. Февруарий тридцатый» вновь встретимся с носами-субъектами: «…самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне» [4, с. 269]. Но первоначальное постулирование носов как жителей Луны затем нивелируется анормальностью героя, что смягчает потенциальную субъектность данного органа.
В случае с носом как частью тела Гоголь доводит до предела тенденции как опредмечивания, так и придания субъектности. И это будет касаться еще и одежды. Если обратиться к понятиям живого/ неживого, то превращение живого в неживое — например носа в предмет — сопровождается обратным процессом — оживлением неживого, например одежды, что будет характерно для другой петербургской повести — «Шинель».
«Нос живет на гранях “двойного бытия”, то переселяясь в мир лиц, то вновь являясь в категории вещи» [3, с. 25]. Предельно предметное становится субъектным и социально значимым, чтобы потом вновь опредметиться, а затем вернуться к природному статусу.
Появление субъектности у носа должно определенным образом повлиять на его хозяина. Тем более что в антропологическом смысле нос подавляет майора Ковалева, не только потому, что на три чина выше, но и потому, что естественная иерархия тела и целостного человека разрушена. Внешне субъектность Ковалева как будто уменьшается: герой уже не может полухвастливо-полустыдливо отсылать к своему майорству, ему приходится окоротить свою фривольность и перестать интересоваться «легонькими» дамами. Меняются его позы и пластика, речь становится косноязычной. И в этом смысле Ковалев сближен с Башмачкиным на приеме у значительного лица.
Более того, ядовитая усмешка автора помещает Ковалева в фантасмагорический диапазон между двумя группами — между романтическими героями, подобно которым коллежский асессор вынужден теперь закутываться в плащ, таинственно закрывать лицо, и социальными изгоями — сифилитичными нищенками-старухами с завязанными лицами.
С другой стороны, несчастье по-своему обогащает героя. Он проникается новыми — и серьезными! — эмоциями: испуг, ужас, изумление, почти отчаяние, а после возвращения носа — беспамятство неожиданной радости и «чувство неизъяснимого страха» [4, с. 85]. Незаемные человеческие эмоции впервые посещают обывателя. Ковалев испытывает свою меру беспомощности, невозможности изменить обстоятельства, сталкивается с вопросами человеческого достоинства. Прирастание субъектности ведет к появлению даже эмпатии: Ковалев научается по-своему заботиться о носе, греет дыханием, разговаривает с ним, уговаривает как живое существо: «Ну! Ну же! Полезай, дурак!» [4, с. 85]. Особо сильные эмоции он испытывает после возвращения носа — вечером 25-го марта, а затем на протяжении более чем 10 дней, когда фигура умолчания о его действиях не мешает тем не менее понять, что попытки пристроить нос на лице закончились крахом.
Прорастание личностности у Ковалева связано как раз с моментом отделения фрагментированной части тела, с дефектом тела, появляется даже попытка помыслить себя с помощью слова «почти», ментально сближающем нос и личность героя, о чем писал С. Г. Бочаров [1, с. 142–145], но наметившаяся тенденция быстро сходит на нет после чудесного возвращения носа, и вновь воцаряется пошлость обыденной жизни. Деформированное тело пробуждает душу, обычное тело обывателя способствует сну души.
Сам факт обращения живого в неживое, а потом в особое живое трудно понять без обращения к популярным в гоголевское время магическим идеям, фантасмагорическим видениям. В начале повести «Невский проспект» повествователь констатирует: «Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!» [4, с. 8].
Явление фантасмагории связано с техническими новинками, вроде волшебного фонаря laterna magica, известного в Европе с середины XVII в., довольно неплохо известного в России XVIII в. С изобретением в Берлине в 1790 г. сильной лампы волшебный фонарь был усовершенствован, и «с этого момента родилось шоу фантасмагории». «Привидения и внушающие страх фигуры как удар грома в девяностые годы XVIII столетия вновь вернулись...» [5].
Само понятие «фантасмагория» (от греч. φάντασμα — явление, призрак и ἀγορεύω — говорю) постепенно из идеи изображения вообще чего-либо сузилось до представления, показывающего призраки, причудливые видения, фантазии автора. В связи с тем, что с начала XIX в. представления начали на сравнительно регулярной основе показываться в России, сама техника и комплекс идей, вызываемых шоу, вошли в культурный обиход. Достаточно назвать повесть В. Одоевского «Косморама» (1840), в которой детский волшебный фонарь становится для героя способом проникновения в истинные, подчас ужасные, демонические отношения между людьми, способом познания своей судьбы. Фантасмагория как жанр и как литературный подход ярко показана в повести Н. Полевого «Блаженство безумия» (1833), в которой таинственный персонаж Шреккенфельд, казавшийся «всевластным демоном», «оканчивал вечера изумительными фокусами или фантасмагориею», на этих вечерах «фантасмагория, кинезотография, пиротехника, китайские тени изумляли всех своею волшебною роскошью» [10].
Что касается фантасмагоричности гоголевского Петербурга, то сама скорость катастрофических по сути изменений декораций на Невском проспекте вызвана, по мысли повествователя, ужасной волей «адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни» [10, с. 25]. Это объяснительное утверждение настойчиво еще и еще раз проводится писателем: «Какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков» [10, с. 27]. Лишение мира нормальности есть прежде всего вторжение в сферу духа, в тот разлад мечты и действительности, о котором пишет классик.
Но в повести «Нос» писатель дает измененную фантасмагоричность. На смену привычным порывам романтических желаний, чудесам лелеемой мечты приходят чудеса тела. Если первое выражало крайние формы отрыва личности от действительной жизни, по словам героя повести Н. Полевого, от «вещественного мира», то гоголевская фантасмагория показывала степень отрыва тела от мира души. Телесное тогда преобразуется в вещественное, а значит умирает, когда душа умирает, когда она отождествляется с инстинктами и массовидными нормами поведения, с «приличиями».
Есть в предметности и субъектности гоголевского носа и не замеченный ранее аспект. Отпадение носа не просто переносило действие в область частного человека с его вполне определенной телесностью и набором социальных инстинктов, но показывало доселе неизвестное, глубинное распределение человеческих приоритетов. Телесное в его норме и в ее нарушении могло оказаться более важным, чем прежние общественные установки. Оказывалось, что обычность, привычность, сохранность тела могут значить для человека гораздо больше, чем постулируемые идеи мечты, свободы, прав личности. И хотя Ковалев пытается защищать свои личностные права, он защищает не только право на следование закону и порядку, но и — возможно, это важнее всего — право быть обычным человеком, с его телесной целостностью.
В сюжете повести не по воле деспотичного правителя, развращенного света или злокозненного преступника страдает человек, но по воле неких сверхъестественных сил. При этом у Гоголя «границы, разделяющие фантастическое и дей- ствительное», оказываются размытыми. «…Создается гротескный мир, где нарушение привычных для читательского взгляда связей, форм, закономерностей призвано сделать зримой глубинную сущность изображаемого» [9].
Гротескная магия с ее сферой применения в области тела, с лишением, а потом возвращением носа хозяину позволяет задуматься не только об абсурдности чиновничьей системы западнического типа, но и о новых закономерностях в понимании человека. Их можно сформулировать так: гоголевский художественный эксперимент над телом позволяет сказать, что естественное, природное для социального существа может быть не менее важно, чем мыслительное, духовное, воображаемое, социальное. Тело есть не обуза для человека и не придаток, а форма его существования в вещественном мире. Сверхъестественное не отменяется, оно очевидно существует, оно движимо своими представлениями о наказании и вознаграждении.
Список литературы Тело как предмет в повести Н. В. Гоголя «Нос»
- Бочаров С. Загадка «Носа» и тайна лица // О художественных мирах. Москва: Советская Россия, 1985. С. 124–160. Текст: непосредственный.
- Бычкова А. Ю. Ретроспективы и перспективы гоголевской ринологии // Вестник Том. гос. ун-та. 2009. № 324. С. 16–17. Текст: непосредственный.
- Виноградов В. В. Натуралистический гротеск. (Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос») // Поэтика русской литературы. Москва: Наука, 1976. С. 5–44. Текст: непосредственный.
- Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 7 томах. Москва, 1983. Т. 3. 448 с. Текст: непосредственный.
- Грау О. Фантасмагорическое визуальное колдовство XVIII столетия и его жизнь в медиа искусстве. URL: https: // https://cyberleninka.ru/article/n/fantas magoricheskoe-vizualnoe-koldovstvo-xviii-stoletiya-i-ego-zhizn-v-media-iskusstve (дата обращения: 15.06.2023). Текст: электронный.
- Дилакторская О. Г. Фантастическое в повести Н. В. Гоголя «Нос» // Русская литература. 1984. № 1. С. 153–166. Текст: непосредственный. 7. Дунаев А. Гоголь как духовный писатель. Опыт нового прочтения «Петербургских повестей» — искусствознание // Журнал по истории и теории искусства. 1998. № 1. С. 391–427. URL://istina.cemi-ras.ru/publications/ article/60589080 (дата обращения: 15.09.2023). Текст: электронный.
- Кутафина Ю. Н. Предметный мир художественной прозы Н. В. Гоголя: Петербургские повести, Мертвые души: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Елец, 1999. 18 с. Текст: непосредственный.
- Маркович. Дыхание фантазии // Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840 гг.): сборник произведений. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1991. С. 5–47. URL: https://www.fandom.ru/about_fan/rusromantizm_1.htm (дата обращения: 16.08.2023). Текст: электронный.
- Полевой Н. Блаженство безумия. Николай Полевой. Избранные произведения и письма. Ленинград, 1986. URL: https://www.6lib.ru/books/read/blajenstvo-bezumia-216803? page=19 (дата обращения: 17.08.2023). Текст: электронный.
- Смирнов А. С. Романтическая ирония в русской литературе первой половины XIX в. и творчество Н. В. Гоголя. Гродно: Изд-во ГрГУ, 2004. 134 с. Текст: непосредственный.