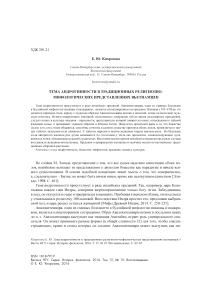Тема андрогинности в традиционных религиозно-мифологических представлениях вьетнамцев
Автор: Кнорозова Екатерина Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Фольклор, мифология и искусство Восточной Азии
Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Тема андрогинности присутствует в ряде индийских преданий. Авалокитешвара, один из главных бодхисатв в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны, является олицетворением сострадания. Начиная с VII-VIII вв. отмечается перемена пола; наряду с мужским образом Авалокитешвары возник и женский, позже он вытесняет мужскую ипостась. Истоки андрогинных мистерий, исполняемых северными тай во время календарных праздников, следует искать в культуре чжуанов - народности, представители которой говорят на языке, относящемся к тайской языковой семье, и проживают главным образом в Южном Китае. Живучесть архаичной веры в то, что божество (духи) и те, кто с ними общаются, способны сочетать в едином существе признаки обоих полов, проявляется в танцах тайских медиумов (или шаманок). У тайских народов и вьетов женщины играли важную роль. Во Вьетнаме из-за авторитета женщин ряд духов называются ба («госпожа»), тогда как предметом, символизирующим духа, является линга, обладающая мужской сущностью. Восстания вьетов против китайского владычества в ряде случаев возглавляли женщины-воительницы. Предания о превращении женщины в мужчину вошли во вьетнамские традиционные сборники рассказов.
Андрогинность, божество, мифология, предание, символ, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147219511
IDR: 147219511 | УДК: 291.21
Текст научной статьи Тема андрогинности в традиционных религиозно-мифологических представлениях вьетнамцев
По словам М. Элиаде, представление о том, что все сущее наделено качествами обоих полов, неизбежно вытекает из представления о двуполом божестве как парадигме и начале всякого существования. В основе подобной концепции лежит мысль о том, что совершенство, а, следовательно – Бытие, не может быть ничем иным, кроме как целокупным единством [Элиаде, 1998. С. 401].
Тема андрогинности присутствует в ряде индийских преданий. Так, например, царь Бхан-гасвана навлек гнев Индры, совершив жертвоприношение только богу Агни. Заблудившись в лесу, он окунулся в озеро и превратился в женщину. Пребывая в женском облике, он поселился у отшельника и родил ему 100 сыновей. Впоследствии Индра простил его, предложив выбрать свой пол, и царь решил остаться женщиной [Мифы Древней Индии, 2014. С. 250–255].
Авалокитешвара, один из главных бодхисаттв в буддийской мифологии махаяны и ваджра-яны, является олицетворением сострадания. Образ Авалокитешвары возник в последних веках до н. э. Авалокитешвара выступает как эманация Амитабхи, играет роль универсального спасителя. Он может принимать разные формы (в общей сложности 32) для того, чтобы спасать страдающих, крики и стоны которых он слышит. Авалокитешвара может выступать как ин-
Кнорозова Е. Ю. Тема андрогинности в традиционных религиозно-мифологических представлениях вьетнамцев // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 10: Востоковедение. С. 62–67.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 10: Востоковедение © Е. Ю. Кнорозова, 2016
дуистский бог (Брахма, Ганеша, Вишну, Шива и т. д.), как будда или любое существо и вступать в любую сферу сансары. Возникший в Индии, культ получил широкое развитие в Китае и других странах Дальнего Востока. Начиная с VII–VIII вв. отмечается перемена пола; наряду с мужским образом Авалокитешвары возник и женский, позже он вытесняет мужскую ипостась [Мифы народов мира, 1991. С. 24].
Исследователи отмечают влияние тантризма, сыгравшего свою роль в изменениях облика ряда буддийских божеств, в частности Авалокитешвары. В своем новом облике Гуань-инь приобрела исключительную популярность в Китае. Считалось, что она может облегчить страдания, утешить, спасти, простить, отпустить грехи и т. д. Одной из важных функций Гуань-инь была ее обязанность доставлять души умерших в рай к будде Амитабхе, который, согласно легенде, был кем-то вроде ее отца (Амитабха создал ее, выпустив из своего правого глаза луч света). Выполняя эти функции, Гуань-инь считалась капитаном «корабля спасения», а также богиней-покровительницей моря, заступницей моряков [Васильев, 1970. С. 332].
По мнению Е. Н. Афанасьевой, для того чтобы проследить истоки андрогинных мистерий, исполняемых северными племенами тай во время календарных праздников, следует обратиться к культуре чжуанов – народности, представители которой говорят на языке, относящемся к тайской языковой семье, и проживают главным образом в Южном Китае. У чжуанов никогда не было собственного государства, поэтому у них и не сложились верования, освящающие власть правителя. Чжуанская мифология представлена в основном сюжетами, связанными с аграрным циклом выращивания риса. Но помимо этого сохранилось довольно много элементов более раннего происхождения: тотемистические мифы, поклонение цветку и камню, культ гор и высоких деревьев, в которых обитает дух-покровитель деревни. Цветок у чжуанов – символ плодородия, женских гениталий и вместе с тем также символ божественного начала, души и судьбы человека. Верховным божеством является Мать (Бабушка) Цветов Ми Луо Йиэ, которая выращивает в небесном саду цветы – души людей. Мать Цветов также создала мир и, кроме того, может превращаться в своего супруга, владыку небес, бога с птичьей головой Пуу Луо Тхо. Одно из имен этого андрогинного божества чжуанов так и звучит – Мать-с-голо-вой-отца (Мэ Хуа Пхо). Андрогинность в древнем чжуанском культе плодородия вовсе не является каким-то абстрактным философским понятием, эта категория приобретает вполне конкретное воплощение в образе Матери-с-головой-отца [Афанасьева, 2012. С. 191–192].
Во Вьетнаме существуют представления, что одна из матушек-хозяек воды была двуполым божеством, наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Звали ее Ны-ныонг. Однако женское начало все же преобладало, и она вышла замуж за подводного владыку. Водные матушки присматривали за реками, озерами, морями, вызывали по мере надобности дождь, помогали людям бороться с наводнением. Богини имели многочисленную свиту, их подчиненные отвечали за порядок в каком-нибудь определенном уголке родной земли [Мифы и предания Вьетнама, 2000. С. 65].
Широкую популярность получило во Вьетнаме предание о четырех Святых матушках из залива Кон. Некогда матушки были китайскими принцессами, во время монгольского нашествия они бросились в море, и течение принесло их к берегам Вьетнама. Их приютил монах, живший в храме, расположенном неподалеку. Принцессы оказались красавицами, и он захотел вступить в связь с одной из них, но был отвергнут и с горя утопился. Женщины не смогли перенести того, что стали причиной смерти своего благодетеля, бросились в море и погибли. Их тела отнесло течением, их выловили местные жители, и оказалось, что облик принцесс совсем не изменился, они были как живые. Люди решили, что стали свидетелями чуда, храмы в их честь возведены во многих заливах и устьях нескольких рек. Считается, что Святые матушки успокаивают бури и даруют дождь.
Как отмечает вьетнамский исследователь Та Ти Дай Чыонг, способ почитания этих духов описывается таким образом, что ясно – люди поклонялись линге, фаллическому символу. Изначальным духом, которого заместили четыре матушки, был дух морских волн Po Riyak (Po Rayak), имеющий мужской облик. Из-за авторитета женщин ряд духов называются ба («госпожа»), тогда как предметом, символизирующим духа, является линга, обладающая мужской сущностью. Смешение – или же превращение мужчин в женщин – лежит прямо в самой сущности божества: тямпская богиня Po Sah Ino имела 37 мужей, родила 37 сыновей, превратилась в мужчину, стала правителем, управляла 12 лет, затем опять приняла женский облик и вышла замуж за государя Китая [Tạ Chí Đại Trường, 2005. С. 178–179].
Рассказ «Девушка превращается в мужчину» из сборника XVIII в. «Записи об увиденном и услышанном» («Киен ван лук», автор Ву Чинь) повествует о том, как в одной деревне в Тхань-хоа жила девушка из рода Чыонг, она вышла замуж за своего односельчанина, которого звали Нгуен Зяп. Через несколько лет у нее родился сын. Вдруг молодая женщина тяжело заболела, у нее поднялся сильный жар, и она лишилась сознания. Через три – четыре дня жар стал спадать, но нестерпимо заболела нижняя часть туловища, и она опять впала в забытье. Прошла ночь, и оказалось, что она превратилась в мужчину, а прежняя болезнь совершенно прошла. Чыонг нашла мужу другую супругу, вернулась в родительский дом и вступила в брак с девушкой рода Фам из соседней деревни, у них родилась дочь. Когда Чыонг состарился, его сын и дочь стали оспаривать друг у друга семейное имущество. Не зная, как разрешить этот конфликт, Чыонг доложил обо всем местному начальству. Чиновник призвал его, седые борода и усы Чыонга ясно доказывали, что он – мужчина. Тогда имущество было поделено между детьми поровну. Нашелся человек, сказавший автору: «Девушка превратилась в парня, как странно! Наверняка у той девушки было что-то от мужской сущности». Автор, смеясь, ответил: «Если твои слова верны, то все, кто в Поднебесной сейчас являются мужчинами, не превратятся ли они в женщин?» Гость тоже улыбнулся и сказал: «Ну, если так, то единственный мужчина – это вы!». Автор почесал голову и промолвил: «Я – тоже женщина» [Vũ Trinh, 1997. С. 842–843].
С небольшими изменениями этот рассказ встречается в анонимном сборнике начала XIX в. «Записки отшельника» («Шон кы тап тхуат»).
По мнению Е. Н. Афанасьевой, живучесть архаичной веры в то, что божество (духи) и те, кто с ними общаются, способны сочетать в едином существе признаки обоих полов, проявляется также в танцах тайских медиумов (или шаманок), называемых по-тайски наанг тхием . Во время этого ритуального танца женщина солидного возраста (около 50 лет, то есть уже обладающая ритуальной чистотой), облаченная в мужскую одежду (одеяние воина), показывает приемы фехтования и танцует с двумя мечами, на острия которых насажены горящие свечи. В конце танца исполнительница входит в транс и начинает «говорить» от имени какого-либо божества или духа. Нет необходимости доказывать, что такого рода представления требуют большого опыта и уверенного владения навыками фехтования с двумя боевыми мечами (эти мечи носят в ножнах, перекрещивающихся на спине, и вытаскивают сразу оба, хватая рукоятки, торчащие над плечами). Подобная мистерия в сольном исполнении женщины, переодетой в воина, распространена в Лаосе и Северном Таиланде, где сохранились древние обычаи тайских народов. Можно предположить, что обычай обучать девочек фехтовать двумя мечами и сражаться на слонах (на боевых слонах воевали королевы Аютии в XV–XVI вв. во время сражений с бирманскими войсками) являлся той почвой, на которой произрастали традиции андрогинного театра. Естественной структурой для подобных ритуалов была социально-экономическая структура северных тайских государств, в которых статус женщины в обществе был необычайно высок [Афанасьева, 2012. С. 193].
Во вьетнамском обществе женщина тоже играла важную роль и пользовалась почти равными с мужчиной правами, хотя семья строилась по патриархальной модели [Швейер, 2014. С. 197].
Истории Вьетнама сохранила нам имена женщин-полководцев. Так, во главе восстания против господства китайской династии Хань (40–43 гг. н. э.) стояли сестры Чынг, происходившие из рода государей Хунг-выонгов.
Мать сестер Чынг – Ма Тхиен, также принадлежавшая к роду Хунг-выонгов, рано овдовела и сама воспитывала обеих дочерей. Она оказала значительную помощь дочерям и зятю в организации повстанческих сил, сумев привлечь в их ряды многих племенных вождей и воинов из окрестных районов. Среди соратниц сестер Чынг было много женщин-воительниц. Согласно легендам, после того как сестры Чынг покончили с собой, бросившись в реку Хатзянг, во- еначальница Тхань Тхиен организовала сопротивление врагу в горных районах Вьетбака, Бат Нан со своими войсками перекрывала горные и лесные дороги, а Ле Чан устраивала засады на водных путях, где ее отряды топили вражеские суда. Позднее все они по примеру сестер Чынг покончили с собой. В деревне Тхыонгтхань (пров. Хатэй) сохранилось предание о том, как некий Кай снарядил отряд из трехсот повстанцев-мужчин, которые принимали участие в восстании, будучи переодеты в женское платье [История Вьетнама, 1983. С. 45].
Вскоре после свержения тысячелетнего китайского господства во Вьетнаме уже при династии Ли (1010–1225) были возведены храмы в честь сестер Чынг, они влились в синкретический культ Святых матушек, дарующих плодородие и изобилие, и считались подательницами дождя. В современном Вьетнаме в праздничных церемониях в храмах, посвященных сестрам Чынг, участвует много людей.
Кроме того, в настоящее время в Хайфонге есть храм Нге, посвященный Ле Чан, древней героине, ставшей генералом освободительной армии во время восстания сестер Чынг в I в. н. э. Воительница происходила из деревни Анбиен, некогда находившейся на месте современного Хайфонга. Святилище долгое время было простым маленьким сельским храмом, однако в 1919–1926 гг. его расширили и украсили каменной скульптурой. В главном зале храма можно увидеть статую Ле Чан, облаченную в богатые одежды. Большая статуя Ле Чан стоит под открытым небом [Крылов, Ершов, 2008. С. 131].
Сражалась с китайцами и воительница Чиеу Ау, она не имела мужа, а груди ее, по преданию, длиной около трех тхыоков (1 тхыок равен 40 см), были перекинуты за спину. Сидя верхом на голове слона, она вступала в бой с врагами. После смерти ее стали почитать как доброго духа [Полное собрание…, 2010. С. 154].
Особенность облика воительницы Чиеу Ау – это ее подчеркнутая женская физиологичность, возможно, связанная с культами плодородия. Обратим внимание, что подобным обликом была наделена вьетнамская мать бесов, согласно поверьям, утаскивавшая детей. Отвадить ее можно было, разбросав кости карпа и черепахи (то есть она выступала и в роли хозяйки зверей). Это напоминает бабу-ягу из русских сказок, властительницу лесных зверей, признаки пола которой также были часто преувеличены.
Сестры Чынг и Чиеу Ау во время боевых действий часто изображаются сидящими на слонах, что нашло отражение и в письменных памятниках. На боевых слонах сражались некоторые тайские королевы. Кроме того, женщины-воительницы Южного Китая также принимали участие в битвах, сидя на слонах.
Именно женщины-воительницы в ряде случаев возглавляли восстания вьетов против китайского владычества.
Огромной популярностью пользуется во Вьетнаме Тхань Зяунг, или дух Фудонга, отразивший китайское нашествие при легендарных правителях Хунг-выонгах. Одна из современных статуй Тхань Зяунга превышает по высоте Медный всадник. Каждый год с 6-й по 12-й день четвертой луны устраиваются грандиозные торжества, основной частью которых является реконструкция сражения с северными захватчиками, затем устраивается пир в честь победы. Праздник сопровождается театрализованными представлениями, всевозможными развлечениями, фейерверком, в нем участвуют десятки тысяч людей.
Обратим внимание, что вражеских военачальников, то есть китайцев, изображают нарядно одетые девочки, которых несут в носилках на плечах. Возможно, это соответствует представлениям, что врагами руководили женщины.
Таким образом, можно заключить, что в традиционных религиозно-мифологических представлениях вьетнамцев явно присутствует тема андрогинности, божества могут наделяться качествами обоих полов.
Список литературы Тема андрогинности в традиционных религиозно-мифологических представлениях вьетнамцев
- Афанасьева Е. Н. Формирование театральной традиции Юго-Восточной Азии // Театр и зрелищные формы Востока. М.: ГИТИС, 2012. С. 170-220. (на рус. яз.) Васильев. Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Наука, 1970. 484 с.
- История Вьетнама. М.: Наука, 1983. 301 с.
- Крылов Д., Ершов Д. Вьетнам. М.: Эксмо, 2008. 371 с.
- Мифы Древней Индии. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 303 с.
- Мифы и предания Вьетнама / Вступ. ст., пер., комм. Е. Ю. Кнорозова. СПб.: Петерб. востоковедение, 2000. 201 с.
- Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 1. 671 с.
- Полное собрание исторических записок Дайвьета / Пер. с ханвьета, комм., предисл., прилож. К. Ю. Леонова, А. В. Никитина, А. Л. Федорина, вступ. ст. А. Л. Федорина. М.: Вост. лит., 2010. Т. 2. 485 с.
- Швейер А. В. Древний Вьетнам. М.: Вече, 2014. 399 с.
- Элиаде М. Азиатская алхимия. М.: Янус-К, 1998. 604 с.
- Tạ Chí Đại Trường. Thần, người và đất Việt Nam (Божества, люди и вьетнамская земля). Hà nội: Văn hóa thông tin, 2005. 384 tr.
- Vũ Trinh. Kiến văn lục (Записи об увиденном и услышанном) // Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam (Полное собрание вьетнамской прозы «тиеу тхует», написанной на китайском языке). Hà Nội: Thế giới, 1997. T. 1. 971 tr.