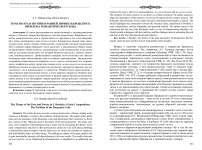Тема поэта и поэзии в ранней лирике И. Бродского. Проблема романтического кода
Автор: Шмакотина Анна Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается дискуссионный в литературоведении вопрос о близости творчества Бродского эстетике романтизма. Выявляются элементы романтического кода и определяются их функции в его стихотворениях 60-х годов, посвященных теме поэта и поэзии. В раскрытии данной темы значительную роль играет идейно-тематический, лексический материал романтизма. Поэт в ранней лирике Бродского часто предстает в традиционном образе певца; он представляет собой личность, соединяющую в себе материальное и идеальное начала, высшими ценностями для которой являются искусство, свобода творчества, индивидуальность. Двойственность природы поэта позволяет ему обрести бессмертие через объективацию себя в созданных произведениях. Традиционное содержание романтического конфликта поэт и толпа дополняется его сопряжением с конфликтом между двумя ипостасями поэта: поэт-человек и поэт-творец. Проблема генезиса поэзии не решается однозначно: признается важность как интуитивного, так и рационального в творчестве. Романтическое представление о божественном происхождении поэзии, о поэте-пророке отрицается. В работе прослеживается связь между воплощенными в ранней лирике Бродского романтическими идеями и его биографией, мировоззрением. Автор приходит к выводу, что использование романтического кода оказывается способом реализации установки Бродского на диалог с традицией, целью которого является отделение реального, жизненного от условно-литературного в ней.
И. бродский, тема поэта и поэзии, романтизм, романтический код, поэт и толпа, бессмертие, певец, пророк
Короткий адрес: https://sciup.org/149139235
IDR: 149139235 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_262
Текст научной статьи Тема поэта и поэзии в ранней лирике И. Бродского. Проблема романтического кода
Вопрос о наличии элементов романтизма в творчестве Бродского остаётся дискуссионным. Так, например, А.С. Кушнер называет поэта «наследником байронического сознания» [Кушнер 1988, ПО], С.М. Гандлевский рассуждает о свойственной романтической поэзии возможности отождествления лирического героя стихотворений и реального автора, обозначенной у Бродского [Гандлевский 1998, 41-45]. Дж. Нокс, В.П. Полухина, напротив, считают, что творчество Бродского внутренне чуждо романтической эстетике, о чем свидетельствует отказ от поисков «прекрасного и высокого», от «представления о себе самом как о центре Вселенной» [Нокс 1998, 217], от создания романтического образа поэта [Полухина 1998, 146-147]. Однако проблема «Бродский и романтизм» не исчерпывается лишь констатацией факта присутствия романтического кода в текстах Бродского, но состоит в выявлении функций этого самого кода: является его использование реализацией эстетических принципов романтизма и их преодолением или представляет собой воплощение изначальной установки на диалог с традицией. Во втором случае следует также определить характер этого диалога.
В лирике 60-х гг. Бродский нередко обращается к одной из магистральных тем русского романтизма - теме поэта и поэзии. В этих стихотворениях романтический код обнаруживается на разных текстовых уровнях: идейно-тематическом, лексическом, на уровне образной системы, конфликта, метрики.
Субъект речи большинства анализируемых в данной статье стихотворений - лирический герой, позиционирующий себя как поэт («Я поэта» по классификации Н.Г. Медведевой [Медведева 1998, 162]). Таким образом, утверждения, касающиеся лирического героя, будут одновременно и утверждениями о поэте вообще, и наоборот. В этой связи вместо термина «лирический герой» в статье используется слово «поэт».
Одним из вариантов реализации конфликта между «Я» и «не Я» (наличие такого конфликта обозначено К.Н. Анкудиновым как главный признак воплощенности романтического мировоззрения в тексте [Анкудинов 2013, 22]) в историческом русском романтизме становится антитеза поэт-толпа, и Бродский прямо обращается к традиционному словарю:

Воскресный свет. Все кажется не та, не та толпа, и тягостны поклоны.
[Бродский 2003, 30].
Конфликт между поэтом и обществом изображался в русской литературе и до появления романтизма. Особенность же романтической интерпретации данного конфликта - отсутствие в нем ярко выраженного моралистического аспекта [Чо Ми Кён 2000, 9]: противопоставление это является скорее сущностным, чем мотивированным рациональными причинами, такими как, например, безусловное нравственное превосходство. Поэт как «жрец» поэзии априори возвышается над толпой, «погрязшей в насущных заботах» [Гинзбург 1997, 156] и отрицающей значимость эстетического, и не имеет обязательств перед обществом. Отношение к поэту толпы, не способной к пониманию произведений искусства и к принятию их неутилитарной значимости, в романтизме представлено широким спектром негативных реакций от безразличия до выраженной агрессии.
В стихотворении Бродского «Приходит март. Я сызнова служу...» [Бродский 2003, 30] противопоставление поэта и толпы также не вполне мотивировано: определение «не та» лишь указывает на чужеродность, но не раскрывает ее причину; глагол «казаться» связан скорее с мнением, субъективным видением, а не с утверждением факта. Конфликт между поэтом и публикой изображен однонаправленным: толпа проявляет к поэту расположение, но ее «поклоны» становятся «тягостными», обременительными. Такое отчуждение поэта от публики, возможно, обусловлено различиями в аксиологических ориентирах. Образ толпы в тексте связан, прежде всего, с понятиями «галантности» и «светскости» (дважды упоминающееся в стихотворении слово «свет» может быть прочитано в значении «избранный круг, высшее общество» [Ожегов 2002, 701]); ее атрибуты - «светлые лестницы» и «зеркала» - ассоциируются с богатством, изысканностью, с блеском формы. Все это утверждает примат внешнего, материального над внутренним, духовным, а также ставит под сомнение искренность «поклонов», адресованных поэту. В самом деле, «галантность» обеспечивает лишь формальную вежливость и приятность, обходительное и любезное поведение, однако остается неясным, выражает ли это поведение подлинное расположение и признание. Вполне возможно, что именно поэтому «поклоны» не радуют, а тяготят.
Потребность в творчестве, в «ежевечерних откровениях» оборачивается необходимостью уединения, обособления и заставляет поэта избегать общества. В стихотворении создается образ поэта - носителя самодостаточного, ориентированного на самоценное Я уединенного сознания, что также является характерной чертой изображаемого в романтизме человека [Тюпа 2018, 9]. Внутреннее, личное, духовное оказывается для поэта более важным, чем внешнее, материальное. Из двух видов времени, представленных в тексте: вечность, локализованная «в доме Апполона»,

в искусстве, и современность - поэта интересует первое, вечное; время же сиюминутное воспринимается как агрессивное, опасное, обессиливающее, пугающее: «век полувоенный» «утомительно шумит» и «бормочет что-то страшное». Подлинным выражением признания становятся не формальные «поклоны», а «лавровый заснеженный венец», который, будучи античным символом славы, связан в стихотворении с образом Аполлона и утверждает вневременную значимость творчества поэта в вечном мире искусства. При этом эпитет «заснеженный» подчеркивает, что поэт позиционирует себя именно как певец «родной словесности». Отметим, что само упоминание имени Аполлона представляет собой реализацию романтического кода в тексте: обращение к античным мотивам было весьма распространенным в произведениях русских романтиков [Савельева 1986]; [Кибальник 2012]. В цикле Бродского «Стихи на смерть Т.С. Элиота» также используются образы Аполлона и венка как утверждение идеи высшего признания поэта:
Аполлон, сними венок, положи его у ног Элиота как предел для бессмертья в мире тел.
[Бродский 1994, 62].
Конфликт поэт-толпа в лирике Бродского 60-х гг. может быть и двунаправленным. В стихотворении «Послание к стихам» негативное отношение общества к поэту выражается в иронии, звучащей в вопросах: «Как вирши? Прибавляете лучей к славе?» [Бродский 1994, 90]. Использование стилистически сниженного слова «вирши» указывает на то, что стихи кажутся публике бездарными, неумелыми, посредственными.
Откровенная враждебность аудитории изображена в стихотворении «К другу стихотворцу». В тексте публика представлена метонимически - как «взгляды», при этом используется сравнение «взгляды, подобные сверлам» [Бродский 1994, 30], отсылающее к фразеологизму «сверлить глазами», т.е. смотреть пристально и недоброжелательно. Интересно, что понимание между поэтом и обществом здесь оказывается в принципе невозможным, т.к. в качестве канала восприятия аудитория использует зрение, в то время как стихотворение является словом звучащим, произнесенным, которое должно восприниматься на слух.
В целом в ранней лирике Бродского концепт поэзия предполагает во-площенность художественного слова, прежде всего, в звуковой субстанции. Образ поэта - певца, играющего на лире, пришедший из античной литературы, присутствует как в классицизме, так и в романтизме, и Бродский активно обращается к этому образу, однако помимо традиционных лексем «певец», «напев», «звук», «голос», «песня» он использует и слово «крик». Главным инструментом поэта становится не привычная «лира» (хотя этот атрибут также встречаем у Бродского), а «горло». Так Бродский

выходит за рамки традиционного поэтического словаря, развивая и дополняя образ поэта-певца. Причины формирования такого образа следует искать не только в сфере предшествующей традиции, но и непосредственно в биографии Бродского. Вероятно, укоренившееся в литературе представление о поэзии как о слове живом, звучащем, наполнилось и реальным, внелитературным содержанием, стало отражением творческой судьбы Бродского: вследствие невозможности печататься в начале литературного пути чтение стихов в дружеском кругу стало одним из основных способов распространения его поэзии.
В романтизме конфликт между поэтом и толпой тесно связан с темой свободы творчества, представляющейся поэту одной из высших ценностей. Создавая художественное произведение, поэт выражает свою индивидуальность, он не может и не должен ориентироваться на вкусы толпы, на ее оценку. Так и в стихотворении Бродского «Зимняя почта» [Бродский 2012, 282] творчество, целью которого является получение расположения аудитории, именуется «публичным грехом», представляется предосудительным, неприемлемым, безнравственным. Любая возможная реакция публики: лицемерное принятие - «аплодисменты всмятку» - или откровенное порицание - «стрела хулы» - неинтересна, не имеет ценности.
Следует отметить, что главным приемом для изображения публики в ранней лирике Бродского становится метонимия. Целостный образ замещается действием, жестом, адресованным поэту: «поклоны» <кланяться>, «взгляды» <глядеть>, «аплодисменты» <аплодировать>, «стрела хулы» <стрелять>. Такой способ создания образа умаляет роль общества в жизни поэта: оно как будто не существует само по себе, является только реакцией, отношением, не обладает никакими характерными признаками, кроме тех, что связаны с восприятием творчества и личности творца. Кроме того, действия публики становятся одновременно и воплощением мировидения самого поэта, отражая не только отношение общества к поэту, но и поэта - к обществу: важным представляется не объективное существование публики, а лишь то, какой ее видит поэт. Метонимическое изображение объектов внешнего мира для выражения мира внутреннего, к которому обращается Бродский - один из главнейших приемов в творчестве Пастернака, в произведениях которого «образы внешнего окружения оказываются отброшенными бликами, метонимическими выражениями лирического “я”». [Якобсон 1987, 329].
Думается, что романтическое противопоставление поэта и толпы в лирике Бродского наполнено не только условно-литературным, но и реальным, биографическим содержанием. Несмотря на то, что поэзия Бродского уже в начале его творческого пути получила высокую оценку современников, в официальных кругах художественная ценность его произведений была не признана, достоинства их и значимость отрицались.
В стихотворении «Речь о пролитом молоке» работа над стихами представлена как индивидуальный путь самосовершенствования, саморазвития:
Я занят внутренним совершенством : полночь - полбанки - лира. Для меня деревья дороже леса. У меня нет общего интереса.
Но скорость внутреннего прогресса больше, чем скорость мира [Бродский 2012, 131].
Противопоставление единичного - множественному, частного - массовому может быть прочитано и как вариация на тему «поэт и толпа». С другой стороны, данные оппозиции, будучи весьма актуальными для того исторического времени, в которое стихотворение было написано, создают и политический подтекст, воплощая протест против господствующей коллективистской идеологии. Кроме того, такое противопоставление выражает один из фундаментальных принципов мировоззрения Бродского, обозначенный в его произведениях разных лет, а не только в ранней лирике: установку на индивидуальность, независимость и свободу поэта и поэзии. Так, в Нобелевской лекции Бродского сказано: «Если искусство чему-то и учит..., то именно частности человеческого существования. <...> оно вольно или невольно поощряет в человеке его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности...» [Бродский 1994, 465]. Кстати, в приведенном фрагменте стихотворения сочетание традиционного и современного реализуется и на лексическом уровне: разговорно-сниженное «полбанки» соседствует со словом из классического поэтического лексикона - «лира».
Русский романтизм часто изображает поэта как человека трагической судьбы. Тема гонений и неизбежности страданий прочно связывается с темой поэта и поэзии. В ранней лирике Бродского жизнь поэта также представлена трагической, непростой: она слишком коротка - «как мало на земле я проживу» [Бродский 2003, 30], безрадостна - занятия поэзией обозначены перифразом «безотрадный труд» [Бродский 1994, 24]; судьба неблагосклонна к поэту, существующему в «несчастливом кружении событий» [Бродский 2003, 30], и это побуждает его обратиться к творчеству, чтобы «развеять тоску и беду» [Бродский 1994, 15]. В стихотворении «Зимняя почта» звучит традиционный для романтизма мотив одиночества: поэт находится вне общества, оказывается отрезанным от мира. Безусловно, произведение это имеет биографический подтекст и связано с северной ссылкой Бродского. Зная, что судьба Бродского была отнюдь не простой, можно утверждать: представление о поэте как о человеке сложного жизненного пути для него сформировано не столько литературой, сколько самой жизнью.
Стихотворение в творчестве Бродского 60-х гг. понимается как опыт души поэта, воплощение его чувств и переживаний, это «искренность, сдержанность, мука» [Бродский 1994, 24], «печаль» [Бродский 1994, 8], «и нежности приют, и грусти вестник» [Бродский 1994, 49], «нечто,
рожденное в сердце» [Бродский 1994, 30]. Тема страданий как необходимого условия поэтического творчества поднимается и в некоторых произведениях русских романтиков; эмоциональные потрясения одновременно становятся и материалом для стихотворений, и причиной, чтобы взяться за перо, и гарантией качества художественного текста. Бродский эту тему развивает, осложняя ее связью с конфликтом поэт-толпа-, будучи человеком публичным, находящимся в центре внимания, поэт вынужден выставлять сокровенные чувства напоказ, открывать душу перед аудиторией, не склонной к сопереживанию. Это порождает внутренний конфликт, раздваивает личность поэта: его «сердце в страхе живет перед горлом» [Бродский 1994, 30], потому что все, рожденное внутри него, становится гласным, обращается в звук, в песню. Важно, что озвучивание поэтического слова может проходить помимо воли самого поэта, вразрез с его желанием говорить.
Противопоставление человека и творца как двух ипостасей поэта базируется на романтической концепции творческой личности, согласно которой поэт соединяет в себе и природное, и идеальное начала [Шеллинг 1999, 164-185]. В произведениях русских романтиков это утверждение реализуется и через обозначение двух способов существования поэта: будничная, обыкновенная человеческая жизнь сочетается с жизнью творца, «носителя высшего познания и откровения, гения, творящего новые миры» [Гинзбург 1997, 63]. У Бродского идея двойственности поэта получает развитие. Так, в стихотворении «О этот искус рифмы плесть» рациональное начало в творчестве противополагается эмоциональному. Душа поэта, его чувства становятся материалом для стихотворения, который непременно должен быть обработан разумом, для чего поэту необходимо отстраниться от самого себя, от собственных переживаний. Эта мысль, запечатленная в ранней лирике, после отразилась и в одном из интервью Бродского: «... когда поэт берется за перо - особенно если за перо заставляет взяться страдание, - то страдание перестает быть самим собой и становится содержанием. Это отстранение от самого себя довольно шизофренично, но оно необходимо, поскольку когда ты пишешь, тебе надо по крайней мере понять, что с тобой произошло - хотя бы для того, чтобы рифмы подобрать <«рифмы плесть» -А.Ш.>, какой-то метр и т.д. Поэтому процесс писания рождает в поэте ощущение некоторой, что ли, фальши, ложности его натуры» [Бродский 2000, 293]. Констатируя необходимость отстранения от собственных переживаний в стихосложении, Бродский подчеркивает значимость рационального в творчестве и полемизирует с романтической концепцией поэзии, утверждающей главенство иррационального, интуитивного.
Вопрос о генезисе литературного творчества в ранней лирике Бродского не разрешается однозначно. Потребность облачить чувства в слово или скрыться от страданий в идеальном мире, в сфере искусства - вот только пара причин, побуждающих поэта к сочинительству. В стихотворении «Приходит март. Я сызнова служу...» [Бродский 2003, 30] многознач- ность слова «откровение», входящего в состав перифраза, обозначающего в тексте процесс творчества - «ежевечерние откровения» - не позволяет точно определить, является ли поэзия исключительно выражением внутреннего мира поэта, его сокровенных тайн и переживаний, или же имеет божественную природу, представляет собой воплощение высших истин в слове. Лексема «наитие», используемая в качестве синонима творчества, может в равной степени указывать как на значимость интуитивного, нерационального в поэзии, так и на ее связанность с высшими силами.
В целом же для ранней лирики Бродского характерно неприятие романтического представления о поэте как о пророке. В стихотворениях 60-х гг. Бродский прямо обращается к лексикону русского романтизма, используя слово «пророк» и однокоренные с ним в ироническом ключе. Идея богоизбранности поэта, его способности к прорицанию представляется абсурдной и подвергается осмеянию:
прости того, кто будучи ленив в пророчествах...
[Бродский 2012, 283]
Я отнюдь не стремлюсь в пророки. [Бродский 2012, 129]
У пророков не принято быть здоровым. Прорицатели в массе увечны. Словом, я не более зряч, чем назонов Калхас.
Потому - прорицать все равно что кактус или львиный зев подносить к забралу, все равно, что учить алфавит по Брайлю. Безнадежно.
[Бродский 2012, 84]
Идея о двойственности природы поэта воплотилась в ранней лирике Бродского и как свойственное идеалистическим учениям противопоставление души и тела, нетленного и конечного в человеке. В рамках романтической концепции человека как субъекта, соединяющего в себе материальное и идеальное, поэт получает возможность обрести вечное бытие через утверждение индивидуального бессмертия души, преодолевает смерть посредством творчества, объективируя себя в созданных произведениях. В этой связи проблема бессмертия вообще и бессмертия поэта в частности становится одной из ведущих в русском романтизме [Косяков 2007].
В лирике 60-х у Бродского в качестве одной из самых весомых причин, побуждающих к творчеству, представлено осознание поэтом собственной конечности; процесс создания стихотворения оказывается способом ненадолго забыть о смерти:
Вот и певец возвышает голос - на час, на мгновенье, криком своим заглушает собственный ужас забвенья.
[Бродский 1994, 30].
Особая миссия поэта заключается не в изречении высших, божественных истин на земле, а в преодолении извечного противоречия между духом и плотью, между бесконечным и конечным - «разрыва меж душой и телом» [Бродский 1994, 24] - в неосуществимом стремлении обрести цельность, единство, избавить человека от внутренней конфликтности его природы. Единственная сила, способная прервать процесс творчества - это смерть, ожидающая не только самого творца-человека, но его творения:
Талант - игла. И только голос - нить.
И только смерть всему шитью - пределом.
[Бродский 1994, 24].
Смерть представляется как торжество Времени, его победа над человеком. Однако поэт, способный преодолевать внутренний разрыв между духовной и материальной субстанциями, ищет для себя «лестную правду» - возможность спастись от абсолютного небытия. Таким образом, страх смерти побуждает поэта взяться за перо, прежде всего, потому что поэзия может даровать ее творцу шанс стать частью нетленной истории человеческого духа, избежать пусть не телесной, но духовной смерти, пугающего «забвенья» [Бродский 1994, 24]. Важно отметить, что романтическая тема бессмертия поэта и поэзии органично существует в контексте творчества Бродского как вариация на тему смерти, признанную исследователями ключевой в его произведениях.
Бродский обращается к весьма распространенной в романтизме теме автономного существования поэзии, преодолевающей пространство и время. В его лирике «бессмертие в мире тел» реализуется как пребывание поэта в памяти живущих, «молодого темени» [Бродский 1994, 62]. Использование традиционных образов живой природы, растения, выражающих идею бессмертия духовной субстанции [Косяков 2007], демонстрирует установку на вечное бытие в живом, растущем и постоянно обновляющемся мире:
Будет памяти служить только то, что будет жить.
...Будет помнить лес и дол...
...Будет помнить каждый злак...
[Бродский 1994, 62].
Однако для Бродского важно не только звучание голоса поэта после его смерти, но и способность отделенного от своего создателя поэтического слова побуждать адресата к ответу Таким образом, постулируется возможность поэта обрести бессмертие в процессе непрерывной коммуникации:
...дальние горы и эхо каждое слово повторят.
[Бродский 1994, 30].
и, может быть, забыв про все на свете, в иной стране - прости! - в ином столетьи ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно, и я в могиле торопливо вздрогну.
[Бродский 2003, 47].
Установление диалога, воспроизведение слова в живом мире является необходимым условием бессмертия поэзии и поэта. Тем не менее, искренние любовь, понимание и признание способен дать лишь человек, находящийся в будущем, «в ином столетьи». Проблема взаимодействия поэта и адресата решается через противопоставление современник - потомок.
Романтические оппозиции поэт-человек - поэт-творец, поэт - толпа Бродский соединяет в стихотворении «Послание к стихам». Тело - непрочная оболочка, «оправа» для души; слово - материя более сохранная, более долговечная; стихотворение «тверже тела»-.
До свидания, стихи. В час добрый.
Не боюсь за вас; есть средство вам перенести путь долгий: милые стихи, в вас сердце я свое вложил. ...
[Бродский 1994, 90].
Поэзия оказывается более совершенной, чем поэт, т.к. включает в себя лишь духовную, идеальную ипостась своего создателя, она «проще горьких ... дум». Как и всякий человек, поэт грешен, стихи же его «и краше и добрей», в них все существо поэта преображается, очищается от материального, что дает стихам те возможности, которые недоступны поэту как человеку, прибавляет им «сил, мощи» [Бродский 1994, 90]. Образ поэта, обретшего бессмертие в своих творениях, строится на метонимии: это «сердце», «голос», «крик», «песня»; адресат, локализованный в будущем, не воспринимает поэта целостно, для него он равен самой поэзии, стихотворению. Современная же публика вступает в контакт и с творцом, и с человеком, ему доступна не только идеальная, но и менее совершенная материальная ипостась поэта, вследствие чего обретение любви и призна-
ния современников оказывается недостижимым:
Будут за все то вас, верю более любить, чем вашего творца... ...Но не грустно эдак мне слыть нищу: я войду в одне, вы - в тыщу.
[Бродский 1994, 90].
Метонимическое изображение поэта является и выражением идеи объективации творца в его произведениях, т.к. само по себе представляет собой объективацию: целостная личность замещается своей проекцией в область поэзии, искусства и обретает в таком виде автономность.
Метрико-ритмический анализ стихотворений Бродского 60-х гг, посвященных теме поэта и поэзии, также позволяет выявить связанность этих текстов с романтизмом. Из рассмотренных в данной статье произведений большинство («Мой, голос, торопливый и неясный», «Мои слова, я думаю, умрут», «Приходит март. Я сызнова служу», «Зимняя почта») написано пятистопным ямбом, те. метром, характерным для классической русской поэзии XIX в., в частности, для лирики Лермонтова [Гаспаров 2000, 153]. По наблюдению М. Пироговской, «пятистопный ямб - один из самых частотных размеров в метрическом репертуаре раннего Бродского», что свидетельствует о его внимании к предшествующей литературной традиции [Пироговская 2005].
Вероятно, обращение к теме поэта и поэзии в ранний период творчества для Бродского обусловлено, прежде всего, острой необходимостью самоидентификации, осознания себя как поэта, определения места и роли поэзии в мироздании, отношения к собственной литературной деятельности. В этой связи столь пристальное внимание к романтической традиции представляется неслучайным: концепция поэзии и творческой личности в романтизме была разработана весьма подробно и оказывала существенное влияние на формирование представлений о поэте и поэзии в других литературных направлениях. Использование идейно-тематического материала романтизма, его проблематики, образов, словаря, метрики, изображение романтических конфликтов для Бродского, возможно, стало способом соотнесения традиционных литературных представлений с реальностью, в том числе с событиями собственной жизни. Оказалось, что многие романтические установки, бытующие в сфере условного, идеального, в области искусства, не так далеки от действительности. Философские взгляды Бродского, отразившиеся также в его произведениях разных лет, созвучны идеям романтизма.
Думается, что романтический код в ранней лирике Бродского есть воплощение установки поэта на диалог с традицией, цель которого - выявление истинного и надуманного в ней, отделение условно-литературного от реального, жизненного, определение актуальности идей романтизма в современности. Появление авторской иронии в некоторых из рассмотренных текстов подчеркивает их диалогичность, стремление Бродского к переосмыслению классической поэтической традиции и наполнению ее собственными смыслами, а также о желании избегнуть патетичности романтического стиля, неуместной в современности.
Список литературы Тема поэта и поэзии в ранней лирике И. Бродского. Проблема романтического кода
- Анкудинов К.Н. К вопросу о содержании методологического концепта «романтизм после романтизма» // Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. № 1. С. 17-22.
- Бродский И.А. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000.
- Бродский И.А. Избранные стихотворения. М.: Панорама, 1994.
- Бродский И.А. Малое собрание сочинений. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2012.
- Бродский И.А. Письма римскому другу: стихотворения. СПб.: Азбука-классика, 2003.
- Гандлевский С.М. Олимпийская игра // Гандлевский С.М. Поэтическая кухня. СПб.: Пушкинский фонд, 1998. С. 41-45.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.: Фортуна Лимитед, 2000.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Интрада, 1997.
- Кибальник С.А. Античная поэзия в России. XVIII - первая половина XIX века. Очерки. СПб.: Петрополис, 2012.
- Косяков Г.В. Метафизика бессмертия в русской романтической лирике: автореф. дисс. ... д. филол. н.: 10.01.01. Омск, 2007.
- Кушнер А.С. «С первых своих шагов в поэзии» // Нева. 1988. № 3. С. 109110.
- Медведева Н.Г. Сшивая ночь с рассветом (об одной особенности субъектного строя лирики Бродского) // Проблема автора в художественной литературе. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 1998. С. 162-168.
- Нокс Дж. Поэзия Иосифа Бродского: альтернативная форма существования, или Новое звено эволюции в русской культуре // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб.: Звезда, 1998. С. 216-223.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Азъ, 2002.
- Пироговская М. Ритм и смысл: пятистопный ямб в поэзии Бродского // Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 13. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/13/ pirogovskaia13.shtml (дата обращения: 05.11.2020).
- Полухина В.П. Поэтический автопортрет Бродского // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб.: Звезда, 1998. С. 146-147.
- Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии. Казань: Изд-во Казанского университета, 1986.
- Тюпа В.И. Проблема уединенного сознания в русской классической литературе // Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: Юрайт, 2018. С. 9-27.
- Чо Ми Кён. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина и поэтов его времени: автореф. дисс. ... к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2000.
- Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М.: Мысль, 1999.
- Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Б. Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 324-338.