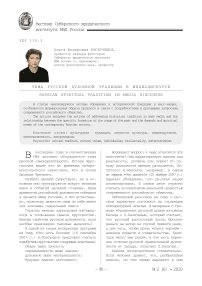Тема русской духовной традиции в медиадискурсе
Автор: Нескрябина Ольга Федоровна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (6), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются мотивы обращения к исторической традиции в масс-медиа, особенности формирования образа прошлого в связи с потребностями и духовными запросами современного российского общества.
Культурная традиция, ценности культуры, индивидуализм, интеллигентность, авторитаризм
Короткий адрес: https://sciup.org/140195997
IDR: 140195997 | УДК: 130.3
Текст научной статьи Тема русской духовной традиции в медиадискурсе
В последние годы в отечественных СМИ активно обсуждается тема русской самоидентичности. Истоки «русскости» видят кто во временах татаромонгольского нашествия, кто в эпохе Василия Третьего.
Разброс мнений существует, но в основном они группируются вокруг великих имен и событий далекой старины. Идея древности российской духовности победила в проекте «Имя России», и это естественно, поскольку давность сама по себе имеет для человека сакральный смысл.
Гораздо меньше единодушия наблюдается в толковании смысла «русскости». Каковы свойства русской духовности, если вообще правомерно таковые выделять?
В одной из своих воскресных программ на тему «Что есть Россия» (16 сентября 2007 г.) В.Третьяков предложил считать атрибутами «русскости» следующие константы:
общее выше личного;
справедливость выше закона; духовное выше материального; будущее важнее настоящего.
Возникает вопрос: к чему относятся эти константы? Они характеризуют идеалы или реальность, должное или сущее? По поводу реальности мнения расходятся. Политолог В.Никонов, например, в одном из эфиров «Что делать?» (25 ноября 2007 г.) выразил убеждение, что русская нация атомизирована. В самом деле странно считать коллективизм реальной ценностью современного российского общества.
Любопытный разговор на тему о русском характере состоялся на страницах «Литературной газеты». В материале С.Гро-мова «Уравнение русской души» изложена беседа с П.Калитиным, который считает, что русский разгульный купец бросает деньги на ветер не глупой прихоти ради, а для того, чтобы прочь «гнать чертей» -демонов корысти и стяжательства. Капиталы «жгут ему руки», и это есть коренное отличие русской православной духовности от Запада, полагает П.Калитин.1
Данная интерпретация сомнительна. Если человек думает, что, разбрасывая деньги, он тем самым выражает к ним презрение, то это самообман. Реальное стремление к богатству и осознание его греховности, порожда.т душевный надрыв, который выражается в показном равнодушии к деньгам. То, что кажется «широтой души» психологически есть не что иное, как недостаток самоконтроля. Подобное демонстративное поведение являет пример психологической защиты по типу инверсии, что означает придание прямо противоположного смысла мыслям и чувствам, в которых человек не хочет признаться самому себе и окружающим. Дух нестя-жательства присущ православному идеалу, но не русской душе, отсюда в ней и разлад.
Реальные ценности - те качества, которые мы уважаем в себе и в других. Идеальные - те, которые полагается уважать. Идеальные и реальные ценности не совпадают более или менее всегда и везде. Вроде бы очевидно, что сравнивать культуры и народы следует корректно: идеалы с идеалами, реальные ценности -с реальными же. Однако эта простая логика не всегда присутствует в медиадискурсе. Например, идеалы русского православия противопоставляются реальным ценностям западного мира. Отечественная философия противопоставляется зарубежной социальной практике. Результатом такого способа идентификации может быть только самообольщение.
Содержание культурной традиции - что передается - зависит от того, как осуществляется преемственность. Обычно считается, что информационная связь между поколениями происходит согласно обычной причинной схеме - от прошлого к настоящему и будущему. «Почему обременяю вас напоминанием о прошлом? -спрашивает своих читателей автор одной интересной аналитической заметки. - Да потому, что менталитет возникает не вдруг, это дело накопительное, наживное»2 . Данное утверждение истинно лишь отчасти. Накопление характерно для динамики знаний, а традиция предполагает отношение и воление.
Традиция включает информационный компонент, оценку (одобрение-неодобрение) и готовность к действию. Если нет этого активного, мотивированного сегодняшними проблемами отношения к истории, то она либо забывается, либо пребывает в «музейном» состоянии 1о времени, когда данное послание из прошлого по каким-то сегодняшним мотивам актуализируется и приобретает качество традиции. Многие культурные ниточки обрываются, не будучи подхваченными потомками.
Восприятие истории зависит от отношения к настоящему, что ярко проявляется в медиаполемике. В ходе обсуждения вопроса о том, как образ истории влияет на настоящее, используется такая аргументация, которая доказывает прямо противоположный тезис: сегодняшние интересы людей определяют образ прошлого.
Верно сказано, что история учит только одному, а именно тому, что она никого ничему не учит. Правда, это высказывание вспоминают реже, чем контрарное ему. В полемике на страницах «Литературной газеты» многие выступления включали тезис: не будем знать историю, будем повторять ее ошибки. С этим мнением были согласны и участники программы «Что делать?» - профессиональные историки. Привычно звучит подзаголовок литературного обзора: «Как разобраться в настоящем с помощью прошлого?». Как известно, часто повторяемая мысль не становится от этого истинной, но она начинает таковой казаться.
12 декабря 2005 г. программа «Тем временем» (ведущий М.Архангельский) была посвящена декабристам по случаю стовосьмидесятилетия со дня восстания на Сенатской площади. В ходе беседы директор исторического архива высказал мнение, что историю надо не оценивать, а знать и понимать. Это, безусловно, верный подход профессионала: вряд ли правомерно обвинять прошлое в наших сегодняшних грехах и ошибках. Однако нельзя отрицать, что профессиональный взгляд на изучение истории отличается от обыденного и массмедийного. Последний выражает точку зрения настоящего, а историк смотрит на минувшие события с позиции их предыстории. Как любой другой ученый, историк мотивирован на постижение реальности. Непрофессионал, тот, кого называют неблагозвучным словом «обыватель», нуждается в истории по иным причинам. Люди обращаются к прошлому для решения своих сегодняшних проблем. Следует уточнить, что история нужна вовсе не в качестве советчика или наглядного примера.
Один известный ученый на страницах престижного научного журнала советует молодым специалистам изучать историю науки для того, чтобы почувствовать свое присутствие на линии мирового времени.3 Ощущение собственной значимости - в этом кроется смысл знания о прошлом. Многие мыслители в разные времена приходили к выводу, что страх смерти побеждается чувством причастности к роду. Культ исторического знания имеет глубокие психологические корни. Если человек не видит в окружающем его социуме должного уважения к предкам, он вправе задуматься о том, что будет с памятью о нем. Может ли он рассчитывать на то, что его жизнь оставит хоть какой-то след в будущем, если сам он не помнит своих прародителей. Знание истории и «аргумент к истории» являются элементами культа рода, который наполняет смыслом индивидуальное существование.
Тема исторического знания непосредственно связана с решением проблемы смысла жизни, которая касается каждого человека. В современном же медиадискурсе эта тема обсуждается в ином - публицистическом ракурсе, личностный аспект которого не проявлен. Но он существует и нуждается в раскрытии.
Вечная потребность в исторической памяти - одна психологическая детерминанта, другая - стремление видеть историю в свете, выгодном современникам. Эти мотивации могут порождать разнонаправленные тенденции. Первая допускает объективный подход к истории, вторая прово цирует субъективизм. Разделить их в медиапсихологии и в индивидуальном сознании трудно, но желательно и возможно.
В массовом сознании особенность русской культуры ассоциирована с культом интеллигентности, в противовес западному культу индивидуализма. Оба вида светской духовности - интеллигентность и индивидуализм - проистекают из духа Просвещения, акцентируя в нем разные идейные комплексы. Интеллигентность тяготеет к должному. А индивидуализм «отстаивает права» обыденного сознания и естественного поведения. Если индивидуализм утверждает самоценность человеческой индивидуальности, то интеллигентность требует подчинения интересов индивида общественному благу. Индивидуализм связан с высокой самооценкой личности и самопрезентацией. Интеллигентность требует скромности. Эти различия связаны с тем, что самооценка зависит от выбора объекта сравнения. Позиция индивидуализма предлагает других людей в качестве фона для сравнения. Интеллигентность - в качестве эталона предполагает надындивидуальные ценности - нравственные категории.
С позиции индивидуализма сила Я проявляется в стремлении к успеху, а с точки зрения интеллигентности сила Я -это душевная гармония и согласие с собственной совестью. Индивидуализм предполагает чувство ответственности за жизнь свою и своих близких, интеллигентность - чувство причастности к судьбам мира, из чего (но только как один из вариантов) проистекает непрактичность интеллигентского сознания.
Смысловые различия между идейными комплексами индивидуализма и интеллигентности вполне определенны на абстрактном уровне. Когда анализ углубляется на уровень индивидуального сознания - определенность сменяется переливами значений, поскольку общие понятия о нормах и ценностях наполняются разными смыслами. Идеи, которые можно считать универсальными на относительно абстрактном уровне, «обретают в услови- ях определенной культуры конкретную форму»4 . Помимо этого, существует обратная закономерность: гетерогенность культурных представлений и повседневных практик в индивидуальном сознании восстанавливает свой универсальный характер. По-видимому, здесь сказывается общность человеческой природы. Различия между людьми, принадлежащими одной культуре, в среднем более выражены, чем межкультурные различия. Однако обыденные представления не таковы. Если два человека из разных культурных сред не могут достичь взаимопонимания, этот факт часто ими трактуется как столкновение культур, а не характеров. В таких случаях индивидуальные различия маскируются, что затрудняет анализ активного отношения личности к культурным традициям.
Интеллигентность - русский вариант просветительской идеи тождества разума и доброй воли - качество, предъявляющее высокие требования к духовности его носителя. Л высокие требования не слишком демократичны. Полемика по поводу единого государственного экзамена в программе «Культурная революция» (3 апреля 2008 г.) наводит на размышление об особенностях российской духовности. Писатель Л. Быков, профессор и известный телеведущий Ю.Вяземский и др. выступали против ЕГЭ с позиций апологии таланта. В их аргументах проявилось сопротивление российского менталитета признанию прав среднего человека. Многим нашим интеллигентам не нравится само название экзамена - «Единый». У них это слово ассоциируется с унылой усидчивостью и серостью. С профанацией литературы и вообще культуры, которую провоцирует формат «Единого», конечно, нужно бороться, но ориентация системы образования на оригинальность и талант -по меньшей мере, спорная стратегия. К сожалению, голоса в пользу демократизации образования звучали на этом ток-шоу слабее, что логично, конечно, так как владение словом - тоже талант.
Общеизвестно, что СМИ влияют на формирование уровня притязаний. С од ной стороны, мы говорим и пишем об особенностях русского менталитета, хотим подчеркнуть нашу самобытность, а с другой стороны, при помощи медиа внедряем в сознание людей индивидуализм, причем обыденный, не связанный ни с западной, ни с русской духовностью. «Потакай своим желаниям», «живи без комплексов», «каждый сам отвечает за свою судьбу» - модные формулы, выражающие культ успеха и самовосхваления. И что толку параллельно с этим вести утешительные речи о том, что каждый сам определяет, что значит быть успешным!
Индивидуализм - сложное понятие, за которым стоит комплекс идей, понять смысл которых можно только рассматривая их в историческом контексте. Большое упрощение считать индивидуализм противоположностью коллективизма. «Согласно современным представлениям, является заблуждением рассматривать социально-ролевые обязательства как свидетельства коллективизма или проявления интереса к проблемам Я и автономии как свидетельства индивидуализма»5 .
Индивидуализм, как и почти всякая общая идея, имеет разный смысл и разные уровни обоснования. Дух индивидуализма историчен, он зависит от окружающей его атмосферы в конкретном пространстве и времени культуры. Когда индивидуализм появился как философская и этико-правовая доктрина, он имел иной смысл, чем тот, который мы вкладываем сегодня в этот термин. Чтобы понять идеологию, надо учесть, какой системе идей она себя противопоставляла, кто были ее противники и союзники. Одним словом, важен исторический контекст, в котором данная идея существовала. Нет и не должно быть одной единственной оценки сути и духовной миссии индивидуализма, что следует учитывать и апологетам, и критикам этой идеологии.
Из сказанного следует, что, с одной стороны, не стоит ссылаться на влияние Запада, когда мы говорим о состоянии отечественного менталитета. С другой стороны, не стоит уповать на то, что историческая культурная традиция России может заметно повлиять на состояние современного общества.
Настойчивое стремление искать причины особенностей сегодняшнего дня в исторической традиции свидетельствует о нежелании брать на себя ответственность за происходящее. Последнее свойство присуще духу авторитаризма. Комплекс авторитаризма дополняет картину современного российского менталитета, дух которого может скрываться за апологией вольницы!, ненормативности и удали.
Авторитарная тенденция личности проявляется в национализме. Национализм, как считают некоторые ученые, означает идентификацию не столько с нацией, сколько с государством. Так, когда мы! говорим: «национальные интересы», «межнациональные отношения», «объединенные нации» и др., мы: подразумеваем не этнические объединения и отношения, а государство. Как бы мы: ни относились к антидемократическим идеям, мы: должны: понимать, что они имеют глубокие корни в человеческой психике и всколыхнуть эти слои в массовом сознании совсем не трудно. И дело не в традиции как таковой, а в том, что некоторые идеи легко появляются заново в каждом поколении благодаря тому, что они мотивированы: и когнитивно просты.
В печатных СМИ авторитарная тенденция проявляется, в частности, темой «во всем виноваты Штаты». Примеров можно приводить много, возьмем один из почты «^Литературной газеты» (25-31 января 2006 г.). В письме, подписанном «Интеллигент», утверждается, что «реформаторы 90-х годов выполнили заказ США...». Автор не ставит вопрос о том, какие условия внутри страны сделали возможным исполнение заказа иностранной державы. Он, видимо, не чувствует, до какой степени унижает российское достоинство, если думает, что перевернуть жизнь в стране смогли немногочисленные и неукоренен-ные в ней силы.
Образ врага так заворожил наше сознание, что даже летающие тарелки поменяли создателей и экипаж. НЛО уже не инопланетные корабли, а новые разработки американского ВПК (НТВ, сюжет от 20 декабря 2008 г.).
Авторитарная тенденция проявляется в том, что многие российские граждане готовы предпочесть сильную власть правовым нормам. Доктор юридических наук Н.Боброва в статье, озаглавленной «Утраченные иллюзии», пишет, что в конце восьмидесятых с высоких трибун много говорили о необходимости создания правового государства, но «не прошло и пяти лет, как сама же власть стала стыдиться этого понятия, вытесненного более удобным для политического маневрирования понятием «легитимности», которое осенью 1993 года также кануло в Лету...»6. Такое впечатление, что автор хочет сказать: «Ну и бог с ними, с правами, не жалко!». Непонятно ни из этого пассажа, ни из всей статьи, как надо оценивать эти не-сбывшиеся проекты. То ли они вообще не имеют никакой цены, то ли «правовое государство» и «легитимность» - «не про нашу честь», то ли идеи хороши, но исполнение было бездарным. В конце статьи появляется термин «псевдодемократия», из чего можно заключить, что доктор юридических наук все-таки видит смысл в различении демократического и недемократического политического устройства.
Обсуждения в печатных СМИ (в частности, в «Литературной газете») оставляют впечатление большой путаницы в политико-правовых воззрениях, воцарившейся в умах многих представителей образованной публики. Одна из причин данного состояния в том, что на современное значение накладывается исторический смысл политико-правовых понятий. Когда смысл понятия пытаются найти в его прошлом, часто получается не прояснение, а, наоборот, его замутнение.
В том же номере «Литературной газеты» В.Толстых задает вопрос, какое общество мы строим, рыночное с явно выраженной властью денег «где буквально все становится предметом покупки и продажи, или общество социальной справедливости, где основной и высшей ценностью провозглашается сам человек?...». Рассуждение построено таким образом, что рыночное общество может быть только таким, где все покупается и продается, а общество социальной справедливости не может быть рыночным. Нет такой альтернативы: рыночное или справедливое. Это все равно, что решать: «дорогу будем строить длинную или ровную?». Исторический опыт многих стран демонстрирует, что к социальной справедливости общество продвигается в рамках рыночной экономики. Такое впечатление, что у нас все не «как у людей» и это нам нравится.
Вряд ли автор статьи сознательно путает читателя, видимо, так он понимает соотношение экономики и права.
Можно множить примеры, которые подтвердят вывод: в медиадискурсе происходит размывание политико-правовых понятий, таких как «либерализм», «демократия», «гражданское общество», и происходит это с помощью спекуляций вокруг темы исторических традиций. Миф об особой правовой традиции России (точнее об отсутствии таковой) продолжает жить в пространстве медиа. Граждане России в большинстве своем действительно не обладают развитым правосознанием, однако, вековые традиции тут ни при чем. Эта идейная область достаточно подвижна и при желании с помощью СМИ навыки самоорганизации и гражданской ответственности могут сформироваться быстро. Но мифы способны продлевать жизнь феноменам массового сознания.
-
1 Громов С. Уравнение русской души // Литературная газета. 2004. N№40.
-
2 Гамаюнова Н. Как разобраться в настоящем с помощью прошлого? // Литературная газета. 2007. N№2.
-
3 Weinberg S. Four golden Lessons // Nature. 2003. 27 November. Р.389.
-
4 Психология и культура / под ред. Мацумото. СПб.: Питер, 2003. С.272.
-
5 Там же.
-
6 Боброва Н. Утраченные иллюзии // Литературная газета. 2007. N№28.
Список литературы Тема русской духовной традиции в медиадискурсе
- Громов С. Уравнение русской души//Литературная газета. 2004. N№40.
- Гамаюнова Н. Как разобраться в настоящем с помощью прошлого?//Литературная газета. 2007. N№2.
- Weinberg S. Four golden Lessons//Nature. 2003. 27 November. Р.389.
- Психология и культура/под ред. Мацумото. СПб.: Питер, 2003. С.272.
- Боброва Н. Утраченные иллюзии//Литературная газета. 2007. N№28.