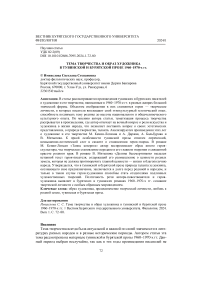Тема творчества и образ художника в тувинской и бурятской прозе 1960-1970-х гг
Автор: Имихелова С.С.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются произведения тувинских и бурятских писателей о художнике и его творчестве, написанные в 1960-1970-е гг. в разных жанрах большой эпической формы. Объектом изображения в них становятся герои - творческие личности, в которых писатели воплощают свой этнокультурный эстетический опыт, способность поднимать тему родины до высоты национального и общечеловеческого культурного опыта. По мнению автора статьи, тематизация процесса творчества раскрывается в произведении, где автор отвечает на вечный вопрос о роли искусства и художника в жизни народа, что позволяет поставить вопрос о своих эстетических представлениях, о природе творчества, таланта. Анализируются произведения этих лет о художнике и его творчестве М. Кенин-Лопсана и А. Даржая, А. Бальбурова и В. Митыпова. К яркой особенности тувинской прозы отнесен лирический, возвышенно-поэтический слог в сюжете о становлении героя-творца. В романе М. Кенин-Лопсан «Танец козерога» автор воспроизводит образ юного героя-скульптора, чье творческое становление передано в его главном творении о священной красоте родного края. В романе В. Митыпова «Долина бессмертников» выделен вставной текст героя-писателя, содержащий его размышление о ценности родных земель, которая не должна противоречить главной ценности - жизни и благополучию народа. Утверждается, что в тувинской и бурятской прозе природа таланта художника, осознающего свое предназначение, заключается в долге перед родиной и народом, и только в таком случае герои-художники способны стать создателями подлинных художественных творений. Поэтичность речи автора-повествователя и героя-художника выявляет в бурятских и тувинских романах 1960-1970-х гг. сознание творческой личности с особым образным мировидением.
Образ художника, предназначение творческой личности, любовь к родной земле, тувинская и бурятская проза
Короткий адрес: https://sciup.org/148328510
IDR: 148328510 | УДК: 82.2(09) | DOI: 10.18101/2686-7095-2024-1-72-80
Текст научной статьи Тема творчества и образ художника в тувинской и бурятской прозе 1960-1970-х гг
Тема творчества всегда была актуальной и важной по своей значимости в литературах разных народов и в разные исторические периоды. Автором статьи эта тема рассмотрена на материале тувинской и бурятской прозы 1960–1970-х гг. Данный период выбран неслучайно, так как в эти годы произведения писателей не только выходили на родных языках, но и особенно активно переводились и издавались на русском языке, а также создавались писателями-билингвами на русском языке, что позволяет рассматривать их в контексте единого литературного процесса в стране.
Обращение тувинской и бурятской прозы к теме творчества неизменно выводит писателей к вопросу о природе таланта художника. Изображая процесс творчества, автор отвечает на «вечный» вопрос о роли искусства и художника в жизни своего народа. В этих эстетических представлениях можно обнаружить немало общих точек соприкосновения обеих литератур. В то же время в процессе историколитературоведческого, сравнительно-сопоставительного анализа прозы тувинских и бурятских писателей 1960–1970-х гг. ставилась задача определить отличительное, особенное в разработке данной тематики в разных жанрах.
В тувинской прозе о героях-художниках оригинальное соединение прозы и поэзии выявило сближение эпического начала с лирическим, возвышенно-поэтическим разговором о роли искусства в жизни тувинского этноса. В бурятской прозе исследование повествовательных традиций исторического романа было вызвано использованием структуры «текста в тексте». Эти аспекты рассмотрены в качестве критериев художественности, в русле которых и возможно было найти точки соприкосновения и отличия в решении темы творчества. В результате сделан общий вывод о стремлении тувинских и бурятских писателей решить тему в свете универсального культурного опыта, открыть новые жанровые модификации, изменения в повествовательной структуре, а в облике героя-художника подчеркнуть верность принципам гуманизма и истинного патриотизма. Данные аспекты художественного поиска обеих литератур еще не привлекали серьезного внимания в тувиноведении и бурятоведении.
Основная часть
Тувинская проза свое начало ведет с автобиографических произведений, именно в них отчетливо прослеживается образ художника, в котором писатели стремятся проследить историю становления своей собственной судьбы в соотнесении с историей страны, с судьбой своего народа. В центре первых тувинских романов находится образ автобиографического героя-художника, обладающего острым чувством любви к своей родине: это «Слово арата» Салчака Тока (1957, 1967), «Повесть о светлом мальчике» Степана Сарыг-оола (1966), Олега Саган-оола «Родные люди» (1970; 1976). Справедливо замечание исследователя о роли автобиографизма в освоении тувинскими писателями романного жанра, о том, что жизненный опыт автора помогает «преодолеть традиционные схемы изображения человека в литературе, что собственный жизненный опыт и наличие документальной основы представляются своего рода залогом правдивости отображаемого материала» [8, с. 65].
К названным романам можно добавить и повесть Александра Даржая «Сон при звездах» (1979), в которой повествование опирается на субъективность героя-рассказчика и строится как процесс его воспоминаний о своем детстве. Вот почему особенностью повести является сближение прозы с лирическим, возвышенно-поэтическим разговором о роли искусства в жизни народа и отдельного человека. В форме свободной исповеди автобиографический герой вспоминает маму, друга детства Шойдака и его дедушку Шогжала. И конечно, он видит себя самого — деревенского мальчишку в событиях, врезавшихся в его память, оставивших глубокий след на всей последующей жизни. Его воспоминания освещены светом сверкающих звезд, на которые он, уже став взрослым, смотрит, стоя на балконе своего дома. Именно свет звезд и чистота родной реки, как убежден герой, и предрекли его будущее предназначение художника: «Моя звезда засверкала над бескрайними степями моей родной земли, и она будет сверкать даже после моего ухода в вечность. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что моя тропиночка началась, а затем превратилась в большую дорогу с берегов чистейшей и говорливой речки Сай-Суу» [5, с. 211]. Особое поэтическое словоупотребление, включение в повествование стихотворных фрагментов подчеркивают в герое-рассказчике дар писателя.
Оригинальная модификация жанра автобиографического произведения представлена в книге Африкана Бальбурова «Двенадцать моих драгоценностей» (1975), и образ героя-рассказчика решен в духе публицистического и одновременно поэтического монолога, поющего гимн своему краю в манере простого и доверительного общения с читателем. Монолог этот включает воспоминания героя о своей жизни — трудном и голодном детстве в маленьком улусе, годах учебы и начале трудовой жизни рабочего паренька, приходе в журналистику и литературу. Лирическое, субъективное начало в книге «Двенадцать моих драгоценностей» подтверждает эпический размах темы родины, потому что драгоценностями жизни для автора являются природные ритмы и социальные циклы жизни родной Бурятии. Из названий двенадцати месяцев старинного бурятского календаря составилось «невидимое ожерелье из двенадцати кусочков жизни моего народа, фантастически богатой и сверкающей алмазными гранями жизни» [1, с. 65]. Система ценностей (драгоценностей) в книге А. Бальбурова живет в сознании автобиографического героя так же, как в герое тувинской повести А. Даржая «Сон при звездах».
Роман «Настигающий птицу » писателя Монгуша Кенин-Лопсана (1965) литературоведы считают первым произведением большой эпической формы в тувинской литературе (наряду с романом-трилогией «Слово арата» С. Тока). В романе затронут вопрос о роли разных видов народного искусства в жизни героев — простых аратов. Другой роман писателя «Танец козерога» (1976) повествует о художниках — мастерах народного искусства и построен от лица эпического рассказчика, обладающего субъективно-лирическим сознанием и подчеркивающего сложность природы творчества. Посвященный людям творческих профессий, роман с первых строк заставляет читателя увлечься особой повествовательной манерой, из которой постепенно возникает поэтичный речевой облик повествователя, становящегося особым героем со своим образным мышлением, своей патриотической позицией. И эта точка зрения последовательно реализуется от начала и до конца в романе, посвященном истории дружбы начинающего скульптора Дулгур-оола и его учителя — талантливого камнерезчика Монгуша Черзи, в образе которого недвусмысленно отражены черты реальной личности народного художника Тувы: герой даже носит имя своего прототипа.
Интерес автора связан с влиянием творчества на жизнь простых людей, овладевающих мастерством различных народных искусств. Повествование в романе
«Танец козерога» развивается на грани прозы и поэзии, отражая становление творческой личности в человеке из народа. Влечение своих учеников к искусству народный мастер, скульптор-камнерез Монгуш Черзи передает словами: «В мире нет сильней и выше власти, чем искусства власть над человеком». А стихотворные фрагменты в устах как повествователя, так и героев служат комментарием эстетическим взглядам автора, воспроизводящего процесс развития героя-скульптора и дающего высокую оценку исполнению им подлинно художественного произведения.
В начале своего творчества юный Дулгур-оол восторженно воспринимает изваяние-скульптуру дракона, созданного мастером Черзи. Это его видение диковинного существа в тесной связи с реалиями родной природы воспроизводит повествователь: «Дракон! Оскаленный, разгневанный дракон! Из камня светлого искусно сделан он. Но мастер жизнь вдохнул дыханием своим — и кажется живым, что не было живым! Он должен пламенем дышать — и, как лучи, как пламя, в пасти извивается язык, и ноздри сморщены, как будто он рычит, и кажется, что слышен мощный рык! Безжалостен и зол зубов его оскал, безжалостен и мудр взор круглых хищных глаз. И челка надо лбом стоит грядою скал, и холка — что в тайге вершина поднялась… На всхолмленной спине, укрыв ее слегка, лежат свободно, отдыхая, облака, и длинный тонкий хвост, дотронувшись до них, как будто в ярости рванулся — и затих» [7, с. 119].
Герой-ученик Дулгур-оол не подозревает, что в будущем он создаст творение, которое будет одобрено учителем и принесет ему славу. Его скульптура, изображающая чудо-танец козерогов на Священной скале в местности Телиг Хая (в переводе — скала козерога), предстанет перед читателем от рождения замысла до его талантливого воплощения, которое вызовет у зрителей восторг и восхищение. Им покажется при взгляде на его скульптуру, что «из тысячелетней мглы идут сюда козероги, спускаются со скалы. Поступь легка, движения грациозны, чаруют сердце и глаз. Не вздумайте крикнуть возле — разбегутся тотчас» [7, с. 184]. В лирическом восприятии творения художника подчеркнута святость (по-тувински — ыдык ) скалы, которая и дает жизнь не менее диковинным мифическим существам, чем дракон, в скульптуре учителя. По мнению автора романа, сакральная сущность козерогов рождена именно в родном крае в далекие времена и теперь явлена людям талантом художника, который относится к природным объектам — горам, рекам как святыням своего народа, подчеркивает неразрывную связь между ними и священными животными [9, с. 222, 228].
Поэтический слог передает повествованию высокий смысл, поскольку сюжет созревания учеников интерната для сирот в молодых людей, ставших профессионалами в различных сферах народного искусства, передаст гордость их школьного учителя-наставника. К финалу он будет удовлетворен тем, что члены организованного когда-то им кружка народного творчества превратятся в художников-профессионалов. Превратятся благодаря их любви к родине, привязанности к родной природе. Именно этого и ждет Монгуш Черзи от любимого ученика в процессе исполнения его заветного замысла — танца козерога. Перед Дулгур-оолом стоит пример эстетической программы учителя, создавшего дерзновенные фигуры из дерева и камня агальматолита. В романе передан процесс совершенствования мастерства ученика с помощью сложной ассоциативной работы, мучительной саморефлексии, характерной для тех произведений тувинской литературы, в которых дается «психологическое объяснение основному конфликту — драме испытания и трудного выбора героя» [6, с. 515]. Дулгур-оол признается после смерти учителя: «…кто же знал о его слезах? Кто вспомнит его печали? Радость людским глазам оставил он — не отчаянье!» [7, с. 161]. Именно таким образом должен действовать и служить своему народу художник, по мнению автора, — вселять в людях радость, исполнять высший долг художника, заключающийся в благополучии своего народа.
Поэтическая личность повествователя наделяет героев такой же стихотворной речью, с которой он часто обращается к читателю. (Здесь немало пришлось потрудиться переводчику С. Козловой по сохранению стихотворной речи). М. Кенин-Лопсан создал совершенно новую для тувинской литературы орнаментальную прозу с ее особым словоупотреблением, стиранием привычных границ между эпосом и лирикой.
Герои бурятских романов 1960–1970-х гг. «Поющие стрелы» А. Бальбурова (1962), «Долина бессмертников» В. Митыпова (1975), написанных на русском языке с исторической проблематикой в центре, тоже творческие личности: один из первых бурятских ученых, собиратель и ценитель бурятского фольклора Михаил Дорондоев и поэт Олег Аюшеев, создающий историческое повествование о судьбе народа хунну. Видится в этих бурятских романах и отличие от романов М. Кенин-Лопсана — оно заключено в мотиве, придающем авторской концепции творчества, всей повествовательной и композиционной структуре особую сложность, — мотиве душевного и творческого кризиса, связанного с личностной и творческой саморефлексией героя-творца. Мотив этот развивается под влиянием внутренней драмы художника, преодолевающего противоречивость в своей душе, объяснение которой в немалой степени связано с противостоянием рациональной и иррациональной сторон творчества. Но первоочередной причиной этой драмы становится ситуация нравственного выбора, подсказанная социальным, гуманистическим смыслом творений искусства. Оба романа воспроизводят исторические периоды, служащие параллелью острым вопросам современности. Их герои обладают сложной мучительной саморефлексией: в романе А. Бальбурова сюжет связан с утратой связи творческой личности со своим народом, а в романе В. Миты-пова — с осознанием потери отчего дома и творческой неудовлетворенностью героя-художника. Наличие серьезной внутренней драмы героя в данных романах позволяет раскрыть эстетические взгляды авторов, создающих своеобразный художнический манифест о первостепенности такого качества творческой натуры, как тревога и беспокойство за судьбу своей родины. Эти качества и рождают в художнике импульс, готовность к творческому акту как разрешению неразрешимых вопросов бытия, как осознанию своего предназначения. И все это приводит авторов к композиционной сложности — внедрению в основной текст вставного текста как результата работы героя-художника.
В центре романа А. Бальбурова «Поющие стрелы» находится герой-интеллигент, и именно это обстоятельство позволило литературной критике высоко оценить роман сразу после его появления, а в научных исследованиях рассмотреть его «в более позднем осмыслении… с иной стороны: художественная ценность нового для бурятской литературы образа героя…» [11, с. 69]. Учитель бурятского улуса Михаил Дорондоев переживает нешуточную драму: кропотливо собирая памятники народной мудрости, он тем не менее не видит пользы от своей работы для земляков и не участвует в их социальной борьбе в начале ХХ в. Но вот он сознательно или подсознательно рассказывает русскому ссыльному врачу Кузнецову древнюю легенду, сюжет которой рождает в нем размышления об ошибочности своих убеждений и приводит к прозрению. В легенде вождь бурятского племени хонгодоров во время похода к новым землям принимает решение освободиться от лишних ртов — стариков. Но один из них будет спасен от смерти своим сыном и затем его мудрый совет спасет племя от гибели. Вождь признает свою неправоту в том, что он уничтожил мудрость племени, и казнит себя, приказав двенадцати воинам пустить в него по стреле. По замыслу автора, финал во вставном тексте, рассказывающий о том, как «двенадцать поющих стрел попали в сердце вождя» [2, с. 253], должен стать метафорой прозрения для интеллигента Дорондоева, понявшего, что уход от борьбы за счастье одноулусников может привести к отказу от его предназначения быть духовным вождем народа.
В конструкции романа Владимира Митыпова «Долина бессмертников» сталкиваются два «текста», современный и исторический, и в этом столкновении проявляется образ героя — современного поэта Олега Аюшеева, сочиняющего роман из хуннской истории III в. до н. э. О новаторской особенности такого построения немало сказано исследователями творчества писателя. Так, С. И. Гармаева увидела в сложности композиционной структуры новый этап в развитии бурятской литературы [4, с. 140], а В. В. Башкеева подтвердила, что эта особенность существенно обогатила художественный инструментарий бурятской литературы [3, с. 171].
К созданию своего «текста» героя романа В. Митыпова подтолкнул творческий кризис: возвращаясь в свой родовой дом, он обнаружит на его месте «темный земляной квадрат, который никак не могла захватить трава…» [10, с. 56]. Тем не менее подавленное настроение героя от того, что дом снесен из-за строительства новой шоссейной дороги, даст творческий импульс. И во время участия в археологических раскопках гуннского городища рождается исторический «текст» об утрате родовых земель хуннским вождем. Шаньюй (вождь) Тумань вынужден покинуть родину предков, чтобы избежать кровопролитной войны и сохранить свой народ. Зато его сын Модэ, новый вождь, готов на все жертвы, убийства и жестокую тиранию, чтобы вернуть исконные земли и сохранить их, защитить от более сильного врага — народа дунху. Он отказывается отдать врагу земли своего народа со словами: «Земля — это не песок пустынь, не солончак степей, не черная грязь на речных берегах… Земля есть основа всей державы, и земля есть основа каждого отдельного человека. Потеряв землю, человек теряет все: могилы предков, что есть одна треть его силы; кочевье, где живет он сам, что есть вторая треть его силы; юрту, где он взрастит свое потомство, что есть остальная треть его силы… Народ, однажды отдавший хоть клочок родной земли и смирившийся с этим, может когда-нибудь отдать ее всю!» [10, с. 244–245].
Герой романа Олег Аюшеев сочувствует шаньюю Модэ, его продуманной и выстраданной позиции, выраженной высоким эмоциональным слогом. Но, поставив вопрос о цене родной земли, он увидит в позиции вождя и доблестного воина не только основу для его будущих побед, будущей славы, завоевания новых земель, но и будущую гибель хуннов. Герой-художник, сочинитель исторического «текста» занимает сторону отца Модэ — Туманя, который в конечном счете выступает против жертвенного кровопролития, сохраняет жизни своих подданных. И в этом, согласно авторскому замыслу, правота на его стороне, несмотря на всю его боль и горечь от попранной и утерянной родины. Таков гуманистический манифест автора романа и его героя-художника как размышление не только о ценности родной земли, но и о смысле истинного патриотизма. Ведь в настоящем правителе главное — жизнь и счастье своего народа. В финале Олег Аюшеев погибает, спасая ребенка, и тем самым отстаивает и доказывает «правоту» замысла своего творения.
Заключение
Как можно убедиться, в разработке темы художественного творчества в тувинской и бурятской прозе 1960–1970-х гг. можно выявить различия, которые коснулись поисков в сфере художественно-символической образности, в выборе повествовательных и жанровых средств выражения. Характерными для тувинских произведений — повести А. Даржая «Свет при звездах», романов М. Кенин-Лоп-сана — стали слияние прозы и поэзии в повествовании, движение к орнаментальной поэтике, объясняемые таким качеством художественной натуры героев, как преданность духу народной культуры. Бурятские писатели А. Бальбуров и В. Ми-тыпов предложили дальнейшее развитие жанра романа, усложненного структурой «текста в тексте», в которых отразилась возможность художника разомкнуть пространство текста и выйти к осознанию подлинной гуманности художника. Но главной объединяющей особенностью тувинских и бурятских писателей стала концепция художественного творчества, в основу которой положена вера в талант художника, способного выйти к конечной цели творчества — увидеть свое предназначение в долге перед своим народом, в причастности к его жизни и судьбе.
Список литературы Тема творчества и образ художника в тувинской и бурятской прозе 1960-1970-х гг
- Бальбуров А. Двенадцать моих драгоценностей. Москва: Советская Россия, 1975. 224 с. Текст: непосредственный.
- Бальбуров А. Поющие стрелы. Москва: Советская Россия, 1969. 336 с. Текст: непосредственный.
- Башкеева В. В. Владимир Митыпов // Новая история литературы Бурятии. Литературные биографии писателей ХХ–ХХI веков: коллективная монография: в 2 томах / ответственные редакторы В. В. Башкеева, С. С. Имихелова. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2022. Т. 2. С. 161–188. Текст: непосредственный.
- Гармаева С. И. Сложность композиционной структуры романа В. Митыпова «Долина бессмертников» как новый этап в развитии национальной литературы // Россия — Азия: проблемы интерпретации текстов русской и восточных культур: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2002. С. 140–141. Текст: непосредственный.
- Даржай А. Сон при звездах / перевод на русский У. Эртине // Избранное. Поэзия и проза. Кызыл: Тываполиграф, 2016. С. 208–250. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. С. Изображение легендарной исторической личности в тувинской и бурятской драматургии // Мир Центральной Азии — IV: сборник научных статей / научный редактор Б. В. Базаров; ответственный редактор Е. В. Сундуева. Иркутск: Оттиск, 2017. С. 512–516. Текст: непосредственный.
- Кенин-Лопсан М. Танец козерога: роман / перевод с тувинского С. Козловой. Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1981. 192 с. Текст: непосредственный.
- Комбу С. Роман в тувинской литературе: иллюстрация основных закономерностей развития действительности // Всероссийский журнал научных публикаций. 2012. № 4(14). С. 64–66. Текст: непосредственный.
- Ламажаа Ч. К., Сувандии Н. Д., Монгуш А. В. Святое в тувинской культуре: прошлое и современность // Новые исследования Тувы. 2023. № 3. С. 220–241. Текст: непосредственный.
- Митыпов В. Долина бессмертников. Москва: Современник, 1975. 236 с. Текст: непосредственный.
- Хандарова О. В. К вопросу о литературной биографии А. А. Бальбурова // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2019. № 2. С. 69–75. Текст: непосредственный.