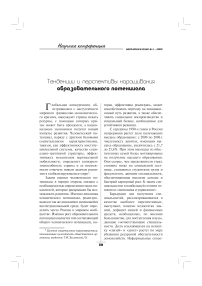Тенденции и перспективы наращивания образовательного потенциала
Автор: Авраамова Елена Михайловна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Научная конференция
Статья в выпуске: 3 (45), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образовательный потенциал населения. Это показывает, что, хотя этот потенциал растет с точки зрения количества, его качество не соответствует требованиям модернизации российской экономики, а возможности для эффективной реализации накопленного образовательного потенциала усугубляются состоянием институциональной сферы и в первую очередь из-за состояния рынка труда, который формируется и укладывается в развитие национальной экономики, основанной на добывающей промышленности.
Короткий адрес: https://sciup.org/14347729
IDR: 14347729
Текст научной статьи Тенденции и перспективы наращивания образовательного потенциала
Задача оценки человеческого потенциала в первую очередь связана с необходимостью определения таких показателей, которые раскрывали бы возможности развития. Именно динамика человеческого потенциала, реализующаяся в так же динамично меняющейся институциональной среде, будет определять место России в мировом сообществе. Именно рост образовательного потенциала является той составляющей общего человеческого потенциала, ко- торая, эффективно реализуясь, может способствовать переходу на инновационный путь развития, а также обеспечивать социальное воспроизводство и социальный баланс, необходимые для устойчивого развития.
С середины 1990-х годов в России непрерывно растет доля получающих высшее образование: с 2000 по 2006 г. численность занятых, имеющих высшее образование, увеличилась с 21,7 до 25,6%. При этом выходцы из обеспеченных семей более мотивированы на получение высшего образования. Они скорее, чем представители страт, стоящих ниже на социальной лестнице, становятся студентами вузов и факультетов, дающих специальности, обеспечивающие высокие доходы и быстрый карьерный рост. К таким специальностям в наибольшей степени относится «экономика и управление».
Барьерами для получения специальностей, рассматривающихся в качестве наиболее перспективных, выступают, помимо недостатка знаний, дефицит связей и финансовых средств, необходимых, по мнению большинства, для поступления в вузы, дающие соответствующие специальности. Доля ссылающихся на нехватку «связей» и «денег» растет по мере убывания ресурсной обеспеченности домохозяйств. Неформальные спосо- бы поступления рассматриваются родителями абитуриентов как императив: к ним обращаются не только самые благополучные домохозяйства, но и те, чьи социально-экономические возможности оценены как низкие. Независимо от уровня ресурсной обеспеченности, половина всех семей тратят на поступление деньги и/или используют связи в дополнение к знаниям.
Устремленность современной молодежи к высшему образованию, желание получить второе или дополнительное образование зрелыми людьми являются факторами, объективно свидетельствующими о росте человеческого потенциала, во всяком случае, в его количественном измерении. Вместе с тем, детальное рассмотрение накопления образовательного ресурса в различных социальных средах, а также его структуры и профиля, свидетельствует о наличии неблагоприятных тенденций. Во-первых, широкое распространение платности породило ограничения доступности качественного профессионального образования. Возник, как отмечает Р.М.Нуреев [2], порочный круг неравенства образования, когда неравенство возможностей ведет к неравенству качества получаемого образования, что предопределяет неравенство возможностей на рынке труда, и так далее по кругу.
Другой круг проблем связан с реализацией образовательного ресурса. И данные статистики, и данные социологических исследований показывают, что накопленный образовательный потенциал реализуется преимущественно в высокооплачиваемых сегментах рынка труда, к которым последние десятилетия не относились сферы деятельности, связанные с развитием национальной промышленности. В результате значительное число по- лучивших качественное техническое или естественнонаучное профессиональное образование покидало соответствующие сферы деятельности, перспективные, с точки зрения инновационного развития страны, но бесперспективные, с точки зрения роста личного благосостояния.
В отраслевом разрезе вне зависимости от положения отрасли успешное трудоустройство и карьерное продвижение пока слабо связаны с качеством полученного образования. Работодатель предъявляет требования скорее к уровню, чем к качеству. Рынка труда, на котором приоритет при замещении наиболее привлекательных вакансий безусловно отдается обладателям дипломов вузов, имеющих более высокий статус и, как предполагается, гарантирующих более качественное образование, пока нет не только на периферии, но и в региональных центрах, и даже в столичном мегаполисе он достаточно узок. И этот узкий сегмент рынка труда не повлиял на массовые представления о конкурентных преимуществах при трудоустройстве. Массового запроса на высокое качество образования со стороны рынка труда не просматривается, и поэтому проводимые в сфере высшего профессионального образования многообразные реформы вряд ли смогут обеспечить повышение его качества, а, скорее, ограничатся пертурбациями в организационно-финансовой сфере.
Остановимся специально именно на массовых представлениях о развитии системы образования как условия повышения образовательного потенциала, для чего обратимся к результатам исследования, проведенного в 2009 г., где в качестве респондентов выступали производители и потребители образовательных услуг, а также работодатели.
Все группы респондентов согласны с тем, что система образования должна быть модернизирована. В этом смысле ими отмечается как позитивный факт увеличение объема финансирования, но одновременно размеры расходов на образование признаются недостаточными для решения задачи радикального повышения качества образования до уровня, необходимого для перехода экономики страны на инновационный путь развития. Значительная часть производителей и потребителей образовательных услуг выражают единое мнение в том, что качество образования постоянно снижается. При этом отдельные группы респондентов дают различные объяснения падению качества. Так, непосредственные потребители услуг образования (школьники и студенты) объясняют это преимущественно низким качеством преподавания; преподавательское сообщество – снижением требований при прохождении конкурсной процедуры при приеме в вузы и отсутствием образовательных стандартов, работодатели – нацеленностью образовательных программ на абстрактные, оторванные от требований практики, знания.
Конкретные меры, призванные повысить качество образования, не находят однозначной поддержки ни одной из исследованных групп респондентов. Как по своему содержанию, так и, главное, по степени его организации, ЕГЭ не находит сторонников ни в учительском, ни в вузовском сообществах, ни среди школьников и студентов, ни, тем более, их родителей, которых приводит в состояние растерянности и острого недовольства сложность и слабая проработанность процедур проведения экзамена, непрозрачность подсчета итоговых ба л-
лов, спорность и неоднозначность тестовых заданий. В целом, являясь сторонниками более объективной системы оценки знаний, чем было при прежней системе, респонденты не считают ЕГЭ мерой, способной решить проблему неформальных платежей при приеме в вузы.
Работодатели и представители профессиональных сообществ акцентируют внимание на другой реформе системы образования – введении уровневой системы подготовки. Отношение работодателей к переходу на уровневую (бакалавриат – специалитет – магистратура) систему зависит от отрасли, в которой они заняты. Вполне толерантно к введению бакалавриата относятся работодатели – представителей таких отраслей, как торговля, услуги и т.п. Напротив, у работников реального сектора экономики – промышленных предприятий в области машиностроения, приборостроения и т.п. – отношение резко негативное. Подобное разделение кажется им бессмысленным, поскольку спектр компетенций, необходимый для их сферы, вполне покрывается традиционными ступенями профессионального образования, объем же подготовки, получаемый бакалаврами, по их утверждению, недостаточен. Пока у работодателей нет ясных представлений об объеме знаний и навыков бакалавров, которые воспринимаются ими как недоучки и по этой причине имеют относительно низкие шансы трудоустройства.
В ситуации наступившего кризиса положение бакалавров на рынке труда еще больше усугубится, так как низкие шансы трудоустройства с данным уровнем образования войдут в резонанс с отсутствием материальных возможностей продолжить образование в магистратуре. В результате возникает вероятность появления нетрудоустроенного и разочарованного поколения, что является безусловной угрозой социальной стабильности.
Представители администраций образовательных учреждений в высшей степени скептически относятся к идее перехода в автономные учреждения (АУ). Абсолютному большинству респондентов не понятны ни смысл такого перехода, ни его порядок, ни плюсы и минусы, из него проистекающие. Респонденты обращают внимание на то, что в случае перевода в АУ коренным образом меняется порядок администрирования, к чему респонденты не готовы, а надлежащей подготовки не ведется, как не ведется и информационная и разъяснительная работа. Респонденты воспринимают инициативу данной реформы как еще один стресс для образовательной системы, переживая который она еще больше будет терять в качестве.
Формирование федеральных университетов встречает более позитивную оценку, чем ранее упомянутые реформы, однако респонденты выражают опасения, что данная мера будет способствовать дальнейшему углублению дифференциации качества образования.
Вернемся к проблеме реализации образовательного потенциала. По данным наших исследований, значимость факторов успешного трудоустройства, связанных с наличием высшего образования, по-прежнему уступает традиционным лидерам – связям и знакомствам и высокой квалификации, сопряженной с опытом работы. В регионах, судя по нашим данным, высокая персонифицированность от -ношений в сфере труда и, соответственно, доминирующее положение фактора связей при трудоустройстве и
карьерных продвижениях еще выше, чем в столице.
В ситуации экономического роста, расширения численности рабочих мест, оживления в ряде ранее депрессивных отраслей значимость социального капитала (связей, знакомств) снижается. Одновременно очищается от сформировавшихся стереотипов конкурентная среда. До наступления финансово-экономического кризиса эти процессы еще только намечались, но свертывание экономического роста без оздоровления институциональной среды вновь выдвинет на первый план неформальные отношения как основу экономических и социальных взаимодействий в сфере образования и занятости.
Массовая трудовая мобильность породила развивающийся спрос на дополнительное образование, которое также при более сбалансированной экономике могло бы свидетельствовать о наращивании образовательного потенциала. Но сложившаяся структура экономики и соответствующие ей направления трудовой мобильности задали рамки развития системы дополнительного образования, призванной обеспечивать текущие потребности рынка труда. Это означает, что основной поток дополнительного профессионального образования (за исключением регламентированного постоянного обновления знаний в сфере медицины и педагогики) сформировался в процветавших до кризиса областях (менеджмент, ИКТ, бухгалтерия). Безотносительно к тому, как справляется данная система с задачами переподготовки кадров, понятно, что направление модернизации сложившейся системы дополнительного образования пока не соответствует мировым тенденциям, согласно которым она является фундаментом для развития экономики, основанной на знаниях.
Предпосылкой развития системы дополнительного профессионального образования стал сложившийся характер вертикальной восходящей мобильности, когда задачи карьерного роста вынуждают работника достаточно часто менять место работы. На новом месте от него требуются новые компетенции, которые приходится приобретать либо за собственный счет, либо за счет работодателя. Но и карьерные продвижения на старом месте работы также часто связываются с необходимостью повышения квалификации, и это стимулирует работников к переобучению. В результате, в ситуации кризиса конкурентные преимущества будут иметь работники, сумевшие подтвердить свою высокую квалификацию, в частности наличием свидетельства о ее получении.
К стратегии получения дополнительного образования будут обращаться и те, кто склонен откладывать выход на рынок труда после получения основного профессионального образования по личным причинам. В этом случае получение образования будет рассматриваться соответствующей группой потребителей как инструмент поддержания социального статуса. Можно предположить, что и оставшийся без работы, но не без средств к существованию, «офисный планктон» также, в целях поддержания статуса, займется получением дополнительного образования. Но какого? В этом состоит основная проблема, поскольку система ДПО подстроена под потребности экономики, которую поразил кризис, а очертания новой экономики – ее структура; приоритетные для государства, а, значит, гарантированно финансируемые отрасли, – не определены. Прозвучало экспертное мнение о том, что в целях снижения давления на рынок труда и повышения человеческого потенциала, следовало бы выдавать оставшимся без работы некий ваучер, назначение использования которого определял бы сам потребитель образовательных услуг, потому что «он лучше знает, что ему нужно». Вряд ли, однако, целесообразно в ситуации кризисной неопределенности ожидать решения проблем исключительно со стороны населения.
Подводя итоги, следует заметить, что при росте образовательного потенциала населения в его количественном выражении, его качество пока не отвечает задачам модернизации российской экономики, а возможности эффективной реализации накопленного образовательного потенциала «гасятся» состоянием институциональной среды, и прежде всего состоянием рынка труда, сформированного и подстроенного под сырьевой тип развития национальной экономики.