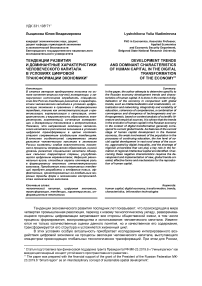Тенденции развития и доминантные характеристики человеческого капитала в условиях цифровой трансформации экономики
Автор: Лыщикова Юлия Владимировна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье автором предпринята попытка на основе контент-анализа научной литературы и эмпирических источников определить специфические для России тенденции развития и характеристики человеческого капитала в условиях цифровизации экономики в сравнении с общемировыми трендами, такими как интеллектуализация и креативизация, виртуализация и сетизация, интегративность и вариативность образования, когерентность компетенций, сочетание конвергенции и дивергенции техногенеза и антропогенеза. Показано, что направления эволюции человеческого капитала в российской экономике в условиях цифровой трансформации в целом соответствуют современным глобальным тенденциям. В качестве особенностей современного этапа развития человеческого капитала в экономике России выявлены слабая вовлеченность населения в процессы непрерывного образования, низкий уровень развития социального капитала обширных сельских территорий страны, усугубляющийся цифровым неравенством; дефицит региональных вузов, способных играть ключевую роль в формировании местного интеллектуального капитала. Преодоление этих негативных тенденций требует разработки и внедрения новых, эффективных, ориентированных на глобальные мировые тренды форм и механизмов воспроизводства человеческого капитала.
Человеческий капитал, цифровая экономика, трансформация, тенденции, характеристики, информационные технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/149134257
IDR: 149134257 | УДК: 331.108“71” | DOI: 10.24158/pep.2020.12.12
Текст научной статьи Тенденции развития и доминантные характеристики человеческого капитала в условиях цифровой трансформации экономики
Тенденции экономического развития последних лет показывают, что происходящая в мире четвертая промышленная революция, переход к новому технологическому укладу, разворачивающиеся процессы цифровизации затрагивают все стороны общественной жизни, в том числе процессы формирования, воспроизводства и использования человеческого капитала. Изменяются не только количественные оценки данного понятия, но и качественное его содержание, трансформируется его структура и усложняется жизненный цикл.
В этих условиях особую актуальность приобретает исследование интегрированного воздействия цифровой экономики на процессы эволюции человеческого капитала, выступающего эпицентром происходящих глобальных технологических трансформаций. При этом для России,
∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-23.2019.6 «“Умный регион” как междисциплинарный концепт устойчивого пространственного развития».
∗∗ The paper was prepared with the financial support of the grant of the President of the Russian Federation MK-23.2019.6 “Smart region” as an interdisciplinary concept of sustainable spatial development”.
безусловно, развивающейся в общем для всех стран фарватере цифровых изменений, но обладающей определенными особенностями в силу сложившейся исторически многоукладности, неравномерности расселения и диспропорциональности в размещении производительных сил, данные трансформации могут быть характерны в большей или меньшей степени.
Целью исследования является определение на основе контент-анализа научной литературы и эмпирических источников российской специфики развития человеческого капитала в условиях цифровизации экономики.
В настоящее время появился целый ряд работ, посвященных исследованию трансформации человеческого капитала в цифровой экономике. При этом более разработанной тема представляется в зарубежном научном дискурсе. Так, Дарон Асемоглу и Паскуаль Рестрепо [1] всесторонне изучили влияние цифровизации и внедрения искусственного интеллекта на рынок труда, они проанализировали изменение спроса на рабочую силу, уровень заработной платы и занятость населения, основываясь на эмпирических данных США и ЕС, и выявили два ключевых эффекта. Первый из них они назвали «эффектом вытеснения», поскольку роботизация и искусственный интеллект заменяют человеческий труд в задачах, для выполнения которых он использовался ранее, что приводит к снижению спроса на рабочую силу и уменьшению размера заработной платы. Ему противодействует «эффект производительности (восстановления)», возникающий в результате экономии затрат, создаваемой цифровизацией и искусственным интеллектом, что в свою очередь увеличивает спрос на рабочую силу в так называемых «неавтоматизированных задачах». Таким образом, мощным сдерживающим фактором негативных последствий цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, таких как снижение спроса на рабочую силу и уменьшение размера заработной платы, является создание новых, более трудоемких задач, которые требуют привлечения большего количества людей для выполнения работы, связанной с интеллектуальными и креативными видами деятельности, и тем самым уравновешивают влияние автоматизации и искусственного интеллекта на производственный процесс. Исследователи также подчеркивают ограничения и недостатки, которые замедляют адаптацию экономики и рынка труда к новой цифровой среде и тормозят итоговый рост производительности в результате этой трансформации. В их числе – несоответствие требований к навыкам работников в сфере цифровых технологий и чрезмерно интенсивной цифровизации производства, осуществляемой, возможно, в ущерб другим актуальным технологиям, способным повысить производительность труда на производстве.
Ситуация в российской экономике в целом соответствует мировым тенденциям. Сокращается численность занятых в таких секторах, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства. Одновременно растет число работников, осуществляющих финансовую деятельность, задействованных в оптовой и розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг. Тем не менее активный межотраслевой кадровый «перелив» не сопровождается значительным ростом безработицы, а происходящие технологические сдвиги не становятся ее источниками, поскольку высвободившаяся в одних секторах рабочая сила успешно абсорбируется другими [2]. При этом занятые в большинстве секторов российской экономики все более интенсивно используют в своей профессиональной деятельности цифровые технологии (табл. 1).
Таблица 1 – Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ в РФ в 2019 г. [3, с. 164]
|
Тысяч человек |
В процентах к итогу |
В процентах от общей численности занятых |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
8 598,3 |
100,0 |
12,0 |
|
Специалисты по ИКТ, всего |
1 664,8 |
19,4 |
2,3 |
|
Руководители служб и подразделений в сфере ИКТ |
63,9 |
0,8 |
0,1 |
|
Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений |
674,5 |
7,8 |
0,9 |
|
Специалисты по базам данных и сетям |
311,8 |
3,6 |
0,4 |
|
Инженеры-электроники |
161,1 |
1,9 |
0,2 |
|
Инженеры по телекоммуникациям |
88,5 |
1,0 |
0,1 |
|
Специалисты по сбыту ИКТ |
11,5 |
0,1 |
0,0 |
|
Графические и мультимедийные дизайнеры |
27,1 |
0,3 |
0,0 |
|
Преподаватели компьютерной грамоты |
7,0 |
0,1 |
0,0 |
|
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ |
94,4 |
1,1 |
0,1 |
|
Специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию |
65,0 |
0,8 |
0,1 |
Продолжение таблицы 1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Техники-электроники |
50,1 |
0,6 |
0,1 |
|
Монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования |
109,9 |
1,3 |
0,2 |
|
Другие специалисты, интенсивно использующие ИКТ, всего |
6933,5 |
80,6 |
9,7 |
|
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью |
838,7 |
9,8 |
1,2 |
|
Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию |
191,2 |
2,2 |
0,3 |
|
Руководители служб в сфере социальных услуг |
385,8 |
4,5 |
0,5 |
|
Физики, химики и специалисты родственных занятий |
116,8 |
1,4 |
0,2 |
|
Архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры |
447,9 |
5,2 |
0,6 |
|
Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования |
238,0 |
2,8 |
0,3 |
|
Специалисты по финансовой деятельности |
2216,4 |
25,8 |
3,1 |
|
Специалисты в области администрирования |
1111,5 |
12,9 |
1,5 |
|
Специалисты по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с общественностью |
1173,2 |
13,7 |
1,6 |
|
Инженеры-электрики |
214,0 |
2,5 |
0,3 |
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что цифровые компетенции приобретают и используют не только руководящие работники и специалисты непосредственно сферы ИКТ, но также и занятые преимущественно в других видах экономической деятельности (более 80 %). При этом наибольшее проникновение элементов цифровизации обнаруживается в финансовой деятельности (25,8 %), сбыте, маркетинге и связях с общественностью (13,7 %), а также в администрировании (12,9 %).
Учеными [4] установлено, что, несмотря на то, что научные, технологические, инженерные и математические (STEM) рабочие места являются ключевым фактором экономического роста и национальной конкурентоспособности, считается, что число STEM-работников на данный момент является недостаточным. Феномен дефицита таких специалистов исследователи объясняют перманентными технологическими изменениями, которые приводят к быстрому устареванию ранее полученных профессиональных навыков и требуют постоянного обновления компетенций. Данные результаты подчеркивают важность обеспечения непрерывности и вариативности образования в области получения технологических навыков и показывают, что STEM-рабочие места являются авангардом распространения технологий на рынке труда.
Согласно докладу Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики [5] в России выявлен один из самых низких показателей участия взрослых в образовании – 17 % (в сравнении с 40 % в среднем по ЕС и больше чем 60 % – в Швеции и других странах). Авторы доклада связывают этот факт с низкими доходами населения и слабым развитием институтов рынка труда, в частности, с отсутствием стимулов у работников и работодателей инвестировать средства в повышение квалификации. В условиях технологического перехода и цифровизации это создает угрозу еще большего замедления российской экономики, снижения инвестиционной привлекательности регионов и городов.
В исследовании Н.В. Бондаренко, Д.Р. Бородиной, Л.М. Гохберга и др. [6] приведены несколько другие данные (табл. 2), в соответствии с которыми доля участия взрослых в образовании колеблется от 24 до 31 % в период с 2012 по 2017 гг. согласно результатам опросов, проведенных Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Таблица 2 – Участие населения в непрерывном образовании (% от численности респондентов в возрасте 25–64 лет) [7, с. 76]
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Всего участвовали за последние 12 месяцев, в том числе по видам непрерывного образования: |
27,3 |
31,0 |
27,0 |
24,0 |
29,5 |
26,0 |
|
формальное образование |
2,7 |
2,5 |
2,3 |
8,3 |
7,9 |
4,3 |
|
неформальное образование |
13,3 |
12,4 |
13,8 |
11,4 |
15,6 |
10,3 |
|
самообразование |
24,4 |
28,5 |
24,6 |
20,4 |
25,5 |
22,2 |
По данным исследователей [8, с. 79], Россия занимает 32 место среди 33 европейских стран по участию взрослого населения в образовании, опережая лишь Румынию, при этом находясь на последнем месте в рейтинге по доле взрослых лиц, занимающихся самообразованием.
В качестве одного из решений этой проблемы, в том числе в сфере восполнения дефицита технологических и цифровых компетенций населения, специалисты Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики [9] предлагают предоставить гражданам трудоспособного возраста возможность пройти переподготовку или повышение квалификации в соответствии с передовыми требованиями к профессии через «сертификаты развития карьеры» на условиях со-финансирования или полного финансирования со стороны государства. Примером внедрения данной инициативы может служить проект «персональных цифровых сертификатов», реализуемый в 2020 г. в 48 регионах России в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
Однако M. Schneider констатирует, что инвестиции в информационные технологии и компетенции сами по себе не приводят к повышению производительности труда на рабочем месте, и пытается объяснить этот факт с позиции синтеза концепций человеческого и организационного капитала [10]. При этом комплекс, включающий два указанных вида капитала в совокупности с информационными технологиями, он предлагает рассматривать в качестве особого вида нематериального актива, способного обеспечить фирме устойчивое уникальное конкурентное преимущество. Однако создание человеческого и организационного капитала, необходимых и достаточных для извлечения преимуществ цифровизации, по мнению исследователя, требует большого количества времени и зависит от истории фирмы и институциональной среды, что доказано на примере изучения динамики конкурентоспособности немецких фирм в процессе цифровизации.
Российские предприятия в настоящее время наряду с развитием цифровых и технологических компетенций персонала активно увеличивают количество и ассортимент используемых в бизнесе информационных технологий (табл. 3).
Таблица 3 – Российские организации, использующие цифровые технологии (% от общего числа организаций) [11]
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Широкополосный интернет |
79,5 |
81,8 |
83,2 |
86,5 |
86,6 |
|
Облачные сервисы |
18,3 |
20,3 |
22,9 |
26,1 |
28,1 |
|
ERP-, CRM-, SCM-системы, в том числе |
15,4 |
15,9 |
17,4 |
19,6 |
20,5 |
|
ERP-системы |
9,3 |
10,7 |
12,2 |
13,8 |
14,8 |
|
CRM-системы |
9,9 |
9,4 |
10,3 |
13,2 |
13,9 |
|
SCM-системы |
4,3 |
4,4 |
4,7 |
6,4 |
6,6 |
|
RFID-технологии |
4,8 |
4,7 |
5,0 |
5,4 |
6,3 |
Из данных таблицы 3 видно, что использование широкополосного интернета стало для большинства организаций обычной практикой; на 50 % в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась доля организаций, использующих облачные сервисы; наряду с ERP-системами постепенно начинают внедряться CRM- и SCM-системы; в меньшей степени распространена пока технология бесконтактной автоматической идентификации объектов с использованием RFID-меток.
Что касается регионального уровня изучения человеческого капитала в цифровой экономике в различных его проявлениях, хотелось бы отметить наличие относительно меньшего числа исследовательских работ по сравнению с национальным и корпоративным уровнем.
В работах E.J. Malecki [12] проанализирован феномен регионального социального капитала как культуры доверия и взаимодействия между людьми (индивидуальной и в рамках организаций) в условиях цифровизации с продуктивными экономическими результатами. Автор подчеркивает, что высокий уровень социального капитала способствует инновациям, обучению и предпринимательству – ключевым процессам регионального развития. При этом выдвигается тезис о том, что уровень социального капитала менее развитых сельских территорий можно повысить путем использования телекоммуникационных технологий для преодоления «цифрового разрыва». Однако развитие цифровой инфраструктуры не является панацеей и должно сопровождаться стимулированием миграции населения для восполнения нехватки в сельских районах резервов человеческого капитала. В противном случае оно окажется бесполезным либо принесет желаемые улучшения лишь для небольшой части сельских территорий.
Проблема цифрового неравенства или «цифрового разрыва» (digital divide) в России очень актуальна в настоящее время и является одной из наиболее трудноразрешимых, поскольку существуют значимые различия в обеспеченности различных территорий страны цифровой инфраструктурой, обусловленные, в том числе, низкой инвестиционной привлекательностью проектов по развитию подобного рода инфраструктуры в связи с диспропорциями в плотности населения, экономической активности предприятий и т.д. Этот факт подтверждается анализом различного рода рейтингов субъектов Российской Федерации по развитию цифровой инфраструктуры [13].
Диспропорции в распределении населения по территории страны, в инфраструктурной (в том числе цифровой) обеспеченности, в экономической активности населения не могут не отражаться на распределении различных видов и форм человеческого капитала.
В работе M. Мархайчук, И. Жуковской [14] произведена оценка и моделирование распространения интеллектуального капитала с использованием данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) по 8 федеральным округам Российской Федерации за 2017 г. На основе трехкомпонентной модели, включающей человеческий, структурный и реляционный капиталы, авторами был сформирован комплекс релевантных показателей оценки регионального интеллектуального капитала Российской Федерации. Установлено, что он распределен по территории страны непропорционально, концентрируясь вокруг столицы, и имеет более низкий уровень в отдаленных от нее регионах. Интеллектуальный капитал распространяется неравномерно, перетекая из Центрального федерального округа в соседние регионы, однако остальные субъекты РФ развиваются практически изолированно.
Авторы Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики резонно связывают развитие регионального интеллектуального капитала со способностью российских университетов выполнять ключевую роль в технологическом, социально-экономическом и культурном развитии регионов, как это происходит в США, Китае, Южной Корее, странах Западной Европы [15]. Однако многие российские вузы не имеют собственных исследований и разработок, слабо связаны с реальным сектором экономики в регионе, отстают от современного уровня развития технологий. Указанные проблемы предлагается решать путем использования сетевых и электронных образовательных технологий в смешанных моделях обучения.
Проведенное нами исследование, безусловно, не охватывает всех тенденций и характеристик эволюции человеческого капитала под воздействием цифровизации экономики. Однако оно позволяет сформулировать ряд промежуточных выводов. Направления трансформации человеческого капитала в российской экономике в условиях цифровизации в целом соответствуют общемировым тенденциям:
-
• кардинальным образом изменяется содержание, структура, механизмы воспроизводства и количественные характеристики человеческого капитала на национальном, региональном и корпоративном уровнях;
-
• наряду с ранее известными проявляются такие тенденции, как интеллектуализация и кре-ативизация, виртуализация и сетизация;
-
• среди характеристик человеческого капитала возрастает роль интегративности и вариативности образования, когерентности компетенций, сочетания конвергенции и дивергенции техногенеза и антропогенеза.
В качестве специфических черт эволюции человеческого капитала в российской экономике следует отметить:
-
• слабую вовлеченность населения в процессы непрерывного образования, приобретения новых, в том числе цифровых и технологических, компетенций в течение всей жизни;
-
• низкий уровень развития социального капитала обширных сельских территорий страны, усугубляющийся цифровым неравенством;
-
• дефицит вузов, способных играть ключевую роль в формировании регионального интеллектуального капитала.
Преодоление этих негативных характеристик требует разработки и внедрения новых, более эффективных, ориентированных на актуальные общемировые тенденции форм и механизмов воспроизводства человеческого капитала, в особенности в регионах.
Ссылки:
; Idem. Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor // Journal of Economic Perspectives. 2019. Vol. 33, iss. 2. P. 3–30. ; Idem. The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment // American Economic Review. 2018. Vol. 108, iss. 6. Р. 1488–1542.
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Тенденции развития и доминантные характеристики человеческого капитала в условиях цифровой трансформации экономики
- Acemoglu D., Restrepo P. Artificial Intelligence, Automation and Work. Cambridge, 2018. 44 p. DOI: 10.3386/w24196
- Acemoglu D., Restrepo P. Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor // Journal of Economic Perspectives. 2019. Vol. 33, iss. 2. P. 3-30. DOI: 10.1257/jep.33.2.3
- Acemoglu D., Restrepo P. The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment // American Economic Review. 2018. Vol. 108, iss. 6. Р. 1488-1542. DOI: 10.1257/aer.20160696
- Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения: доклад Центра трудовых исследований (ЦеТИ) и Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова и С. Рощина. М., 2017. 148 с
- Индикаторы цифровой экономики: 2020 / Г.И. Абдрахманова [и др.]. М., 2020. 360 с
- Deming D.J., Noray K.L. STEM Careers and the Changing Skill Requirements of Work. Cambridge, 2018. 67 p. DOI: 10.2139/ssrn.3451346
- Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики. М., 2018. 106 с