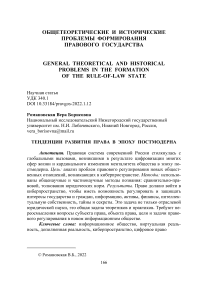Тенденции развития права в эпоху постмодерна
Автор: Романовская Вера Борисовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 1 (67), 2022 года.
Бесплатный доступ
Правовая система современной России столкнулась с глобальными вызовами, возникшими в результате цифровизации многих сфер жизни и кардинального изменения менталитета общества в эпоху постмодерна. Цель: анализ проблем правового регулирования новых общественных отношений, возникающих в киберпространстве. Методы: использованы общенаучные и частнонаучные методы познания: сравнительно-правовой, толкования юридических норм. Результаты. Право должно войти в киберпространство, чтобы иметь возможность регулировать и защищать интересы государства и граждан, информацию, активы, финансы, интеллектуальную собственность, тайны и секреты. Это задача не только отраслевой юридической науки, это общая задача теоретиков и практиков. Требуют переосмысления вопросы субъекта права, объекта права, цели и задачи правового регулирования в новом информационном обществе.
Информационное общество, виртуальная реальность, дополненная реальность, киберпространство, цифровое право
Короткий адрес: https://sciup.org/142233007
IDR: 142233007 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Тенденции развития права в эпоху постмодерна
От эпохи к эпохе менялись представления людей о бытии, богах, человеке, обществе, государстве и праве. Философы описывали эти представления, выделяя их смыслы, поэты воспевали величие государств, подвиги героев, милость и гнев богов, юристы пытались создать право, наполненное справедливостью, историки фиксировали ход событий, окрашивая их в тот цвет, который соответствовал духу текущего времени. Менялись мировоззренческие установки общества, находившие отражение в науч- ных, философских и литературных трудах. Эпоха традиционализма сменилась премодерном, на смену ему пришла эпоха модерна, а следом и постмодерн, современником которого является наше поколение. Произошел радикальный сдвиг в развитии человечества, появились невиданные прежде явления и сущности, альтернативные ценности. Постмодернизм стал господствующим направлением в философии, искусстве и культуре западного мира. Сформировался новый тип мировоззрения, в котором нивелировались прежние представления о государстве, праве, личности, семье, смысле жизни и др. В российском пространстве эти тенденции неизбежно проявятся в ближайшем будущем, а некоторые наблюдаются уже сейчас. Общество постмодерна основано на информационных технологиях, на Мировой сети, на виртуальной реальности. Человечество вышло за пределы живого, наблюдаемого мира в метамир, полностью искусственный, придуманный, дополненный искусственным интеллектом, безграничными возможностями новой реальности. Все прежние установки и представления рассыпаются, как карточный домик, уступая место новым взглядам на новое бытие.
Ярче и прежде всего постмодернизм проявился в культуре – литературе, живописи, скульптуре, театре и кино. По каждому направлению уже написано много исследований с подробным анализом работ и авторов, среди которых немало российских представителей. В рамках данной статьи остановимся только на правовой проблематике, которая неизбежно втягивается в этот дискурс.
С каких бы позиций мы не рассматривали право (речь не идет о религиозных системах), оно всегда являлось регулятором общественных отношений, наиболее важных и значимых в различные времена. Является ли оно мерой добра и справедливости или считается совокупностью правил поведения, установленных государством, или официальной мерой свободы, так или иначе, право находится рядом с представлениями о дозволенном и недозволенном, допустимом или недопустимым в данном сообществе.
Всякое рассуждение о праве неизбежно будет связано с текущим культурным, техническим, ментальным состоянием общества. Известно, что Президент РФ утвердил подготовленный Советом Безопасности список традиционных ценностей. «К традиционным российским духовнонравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо- мощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России»1. По мнению авторов документа, традиционные «российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».
В современном мире, на практике, дело обстоит иначе. Изменения в научно-технической сфере, равно как и изменения в образе жизни и в понимании жизненных приоритетов, с неизбежностью влекут за собой не просто создание новых норм права, но и, в сущности, нового права, отражающего и вписывающегося в новую реальность. В эпоху постмодерна появляются альтернативные ценности, прежде считавшиеся неприемлемыми в обществе, а теперь ставшие привилегированными. Исчезают общие ценности, им на смену приходят групповые ценности, групповые интересы. Суверенитет государств становится фикцией, уступая место экономической и политической силе транснациональных корпораций. Национальное право прогибается перед так называемым международным правом, которое не является, в сущности, компромиссом народов, а защищает экономические интересы одной группы стран.
Все значимые компоненты права претерпевают сегодня полную трансформацию: меняются цели, задачи, субъекты, объекты, содержание правоотношений. Эти процессы происходят во всех сферах: частной, уголовной, семейной, трудовой, административной и пр. Пока данная констатация для большинства юристов вовсе не очевидна, однако те специалисты, которые работают в наиболее технологически продвинутых компаниях, особенно в сфере высоких технологий, уже отчетливо видят эти изменения.
Зарождающийся информационный мир переворачивает все прежние ценности и нормы, нанося сокрушительный удар по традиционным институтам национального государства, права, семьи, половых и возрастных отличий. Появляются новые субъекты, без определенного гендера, которые становятся равноправными участниками общественных отношений. Уже сегодня встала в полный рост проблема уничтожения женского спорта из-за участия в соревнованиях трансгендеров (Олимпиада в Токио продемонстрировала еще один пример), и это далеко не единственная проблема в спортивном праве. В уголовном праве актуальной задачей стало осмысление института ответственности в случаях совершения общественно опасных действий беспилотными транспортными средствами. В уголовно-
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // Собрание законодательства РФ. 2021. 5 июля.
исполнительном праве не решен вопрос о том, в какую камеру следует поместить правонарушителя-трансгендера, чтобы не нарушить права личности, особенно в случаях с неопределенным гендером. Примеров можно привести много, и это только в рамках рассуждения о субъекте. Заметим, что западные ученые давно и глубоко изучают вопросы и проблемы, связанные с применением права в Интернете [1; 2].
В последние годы появились электронные преступления, так называемая сетевая мафия, без определенной локации, живущая в Сети, совершающая там опасные деяния, наносящие ущерб конкретным людям и организациям. Увеличилось количество преступлений, совершаемых с помощью Интернета в виртуальном пространстве, не привязанном к территории конкретного государства. Традиционные полицейские и судебные меры бессильны в борьбе с сетевыми преступлениями из-за отсутствия законодательной основы, технологической базы и профессионалов нужного уровня. Цифровые методы используются также и при осуществлении правосудия [3].
Серьезную трансформацию претерпело семейное право в странах Западной Европы и США. За последние 10 лет практически все страны приняли законы, допускающие однополые браки, ряд стран официально разрешили однополым парам усыновлять детей. Субъектами семейных правоотношений стали «родитель 1» и «родитель 2». Западное право уже урегулировало вопросы донорства материалов для суррогатного материнства, определило содержание правоотношений в этих случаях, правила разрешения споров между такими супругами и отношения с детьми. Активно реализуется программа по смене пола у детей по их желанию. Великобритания является лидером по проведению такого «лечения». Уже не обсуждается, насколько это приемлемо. Дискуссия проходит по вопросам о том, требуется ли согласие родителей на смену пола ребенка, с какого возраста можно начинать гормонозаместительную терапию, с 12-летнего или 8-летнего. Прецедентный характер английского права позволяет гибко реагировать на такие проблемы. В российском постмодернистском пространстве появляются проекты по реформированию семейных отношений. Конечно, они не носят столь кардинального характера, но привносят некие опасные тенденции в вопросы воспитания подрастающего поколения и отношений меду родителями и детьми. В частности, Фондом «Мое поколение» был предложен форсайт-проект «Детство 2030», где среди прочего, отчасти интересного и полезного, предлагалось ввести вместо традиционной семьи «многообразие форм совместной жизни» и много чего другого, не вписывающегося в традиционные российские ценности.
Такое пристальное внимание к телу человека в эпоху постмодерна уводит от духовных исканий, мировоззрение личности формируется в плоском поле телесных трансформаций и гедонических ориентаций. Еще одним направлением, активно развивающимся в настоящий момент и требующим правового оформления, является трансгуманизм, направленный на изменение природных возможностей человека, его «доработку». Превращение человека в пост-человека происходит при помощи разнообразных средств: молекулярной нанотехнологии, генной инженерии, нейроинтерфейса, вживляемых компьютеров и лекарственных средств. Трансгуманисты обещают, что в результате таких изменений человек не будет стареть, болеть, иметь плохое настроение, скучать, уставать, а всегда будет весел, здоров и бодр в любом возрасте. Трансгуманисты не исключают полного переноса сознания из биологического мозга в компьютер, обеспечивая таким образом вечную жизнь личности. Это вовсе не сказки, работы в данном направлении активно ведутся и за рубежом, и в России1.
Право постнового времени не имеет духовных опор, оно прагматично, нацелено на обслуживание текущих задач. Среди многих сфер жизни, подвергающихся сейчас деконструкции, этот процесс явственно ощущается в образовательном пространстве. «С наступлением информационного общества буржуазное понятие "карьеры" утратило смысл, что неминуемо означало кризис системы образования. Информационный рынок труда имеет совершенно новую структуру. Трудоустройство перестало быть пожизненным, и стаж работы не имеет уже первостепенного значения. Биз-нес-организации становятся все менее жесткими и все больше концентрируются на краткосрочных проектах, для которых каждый раз требуются люди с определенными навыками. Такие временные образования создаются лишь для того, чтобы распасться после завершения проекта. Образование не может быть законченной главой, оно должно постоянно обновляться. Каждая новая задача возникает в принципиально отличных от прежних условий, что каждый раз требует новых знаний. Неизбежное следствие: любой диплом, сертификат или звание практически бесполезны на следующий день после их получения. Уже сейчас увеличение спроса на дополнительное образование и развитие навыков как вне, так и внутри бизнеса привело к тому, что многие старые академические учреждения почувствовали ветер перемен» [4, с. 232–233]. Цитаты из известного на западе труда шведских авторов А. Барда и Я. Зондерквиста емко и понятно демонстрируют тенденции в образовании, многие из которых мы наблюдаем и в нашей стране: «В будущем образование станет характеризоваться интерактивностью и прагматизмом. Оно будет осуществляться через Интернет в виде небольших, тщательно адаптированных под конкретную задачу, модулей. Правила будут определять сами студенты, а не университеты. Соперничество между этими изощренными и подвижными системами будет настолько сильным, что на этом рынке просто не останется места для неповоротливых и ресурсоемких университетских монстров» [4, с. 234].
«Распределение власти в информационном обществе зависит от креативности, а не от финансовых вливаний или государственного регулирования. Из этого следует, что нетократы не испытывают стремления кичиться научными званиями, напротив, будет более престижно подчеркивать отсутствие формальной квалификации. В глазах нетократов законченное образование и научное звание является не признаком заслуг, а скорее свидетельством непростительной нехватки здравого смысла. Университеты со временем приобретут репутацию закрытых лабораторий интеллектуальной терапии, и к каждому, кто там побывал, будут относиться с растущей подозрительностью. Однако академические институты представляют властные интересы, от которых не так легко отмахнуться. …Нетократия вряд ли ограничится простым игнорированием академического мира, но будет активно ему противодействовать, хотя бы посредством исключения его представителей из числа членов влиятельных сетей» [4, с. 235–236]. Авторы предрекают, что в недалеком будущем образование потеряет свою академичность в пользу прагматичности и интерактивности, изменится и способ взаимодействия между преподавателем и студентом, вместо личных контактов придет экран монитора или телефона. Прошло всего несколько лет с момента издания книги, и весь мир убедился в наступлении новой реальности. Пандемия лишь ускорила эти процессы.
Таким образом, очевидно, что в эпоху глобальных трансформаций в западном мире, к которому Россию все же можно отнести, хотя и с некоторыми оговорками, неизбежны серьезные изменения в понимании права как явления и в законодательстве как способе регулирования новых общественных отношений.
В отраслевом законодательстве раньше всех эти перемены почувствовали цивилисты. Цифровые технологии создали новую, так называемую VR (виртуальную) и AR (дополненную) реальность. Появился индустриальный Интернет – Интернет вещей, сервисы автоматической идентификации и сбора глобальных баз данных – Big data, облачных сервисов и другие новации. Все это потребовало правового регулирования. Интернет-торговля сравнима по оборотам с обычной торговлей, но ее правовое регулирование требует иных правил. Компьютерные игры, которые стали больше, чем просто игры, тоже требуют определенных правил и защиты от недобро- совестных игроков, которые могут мошенническим путем вывести из игры вполне реальные деньги. Правового осмысления требуют блокчейн и криптовалюты, которые начинают использовать в реальных секторах экономики. Исследователи пишут, что «технология блокчейн может выступать в качестве правового инструмента (средства) для признания прав интеллектуальной собственности … управления интеллектуальными правами … обеспечения и защиты … правообладателей; распоряжения исключительным правом» [5, с. 30] и др. Можно определенно утверждать, что кардинально новая цифровая экономика нуждается в новых законодательных подходах и решениях.
Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы1 применение цифровых технологий чрезвычайно широко. Оно охватывает практически все сферы человеческой деятельности, а также цифровые социальные институты, цифровой контент, виртуальную собственность. Новые технологии настолько глубоко проникли в правовую среду, что не только предоставили иные подходы к традиционным человеческим правам, но и создали новые права. В литературе отмечается, что переосмысление традиционных прав человека в свете последних достижений в научно-технической области является решающим шагом для защиты человеческого достоинства в цифровую эпоху [6]. Появились понятия «цифровое право» [7] и «цифровые права», вокруг которых идут теоретические споры среди цивилистов. С.Р. Решетняк предложил свою классификацию цифровых прав [8, с. 96]. А.Г. Серго полагает, что «в перспективе будет сформирована новая комплексная отрасль права – наноправо» [9, с. 13–14]. А.А. Карцхия предложил свой оригинальный подход к адаптации традиционных правовых систем к современным цифровым технологиям [10]. Тема настолько широка и многоаспектна, что ее изучение требует усилий научных институтов и практиков.
Таким образом, совершенно очевидно, что правовая система современной России столкнулась с глобальными вызовами. Право должно войти в киберпространство, чтобы иметь возможность регулировать и защищать интересы государства и граждан, информацию, активы, финансы, интеллектуальную собственность, тайны и секреты. Это задача не только отраслевой юридической науки, это общая задача теоретиков и практиков.
Список литературы Тенденции развития права в эпоху постмодерна
- Grimmelmann J.Internet Law: Cases and Problems /j. Grimmelmann. - Semafore press, 2017. - 682 с.
- Sidorenko E.L. Transformation of Law in the Context of Digitalization: Defining the correct priorities / E.L. Sidorenko, von P. Arx // Digital Law Journal. - 2020. - Vol. 1 (1). - P. 24-38.
- DOI: 10.38044/DLJ-2020-1-1-24-38 EDN: HFEGID
- Гилинский Я.И. Цифровой мир и право / Я.И. Гилинский // Правовое государство: теория и практика. - 2020. - № 4 (62). - С. 22-30.
- DOI: 10.33184/pravgos-2020.4.3
- Бард А.Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. Зодерквист. - Санкт-Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. - 252 с.
- Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики / А.А. Карцхия // Право будущего: Интеллектуальная собственность, Инновации, Интернет: ежегодник / отв. ред. Е.Г. Афанасьева. - Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2018. - С. 26-40.
- EDN: YWNQBV
- Coccoli J. The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human Rights: An Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era /j. Coccoli // Peace Human Rights Governance. - 2017. - Vol. 1, iss. 2. - P. 223-250.
- DOI: 10.14658/pupj-phrg-2017-2-4
- Термин "цифровое право" в доктрине и правовых текстах / А. Васильев, Ж. Ибрагимов, Р. Насыров, И. Васев // Юрислингвистика. - 2019. - № 11. - С. 15-18.
- EDN: ZZQIST
- Решетняк С.Р. Классификация цифровых прав / С.Р. Решетняк // Вестник экспертного совета. - 2021. - № 1 (24). - С. 96-105.
- EDN: WSHFXT
- Серго А.Г. Наноправо: на пороге будущего / А.Г. Серго // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2018. - № 1. - С. 7-14.
- EDN: ZXWTSH
- Карцхия А.А. Оцифрованное право: Виртуальность в законе / А.А. Карцхия // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2018. - № 2. - С. 5-20.
- EDN: YMYLYV