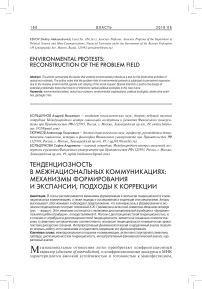Тенденциозность в межнациональных коммуникациях: механизмы формирования и экспансии, подходы к коррекции
Автор: Большунов Андрей Яковлевич, Тюриков Александр Георгиевич, Большунова София Андреевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются механизмы формирования и экспансии тенденциозности в межнациональных коммуникациях, а также подходы к исследованию и коррекции этих механизмов. Авторы высказывают, обосновывают и обсуждают предположение, что ключевую роль в формировании и экспансии тенденциозности играет описанный А.Ж. Греймасом в актантной семантике механизм radotage (рус. - «вздор»). Этот механизм соотносится с явлениями диспозициональной атрибуции и «фундаментальной ошибки атрибуции», отождествляемой Л. Россом с диспозиционистской тенденциозностью, и, в отличие от атрибуции и диспозиционистской тенденциозности, является не социально-психологическим, а семантико-синтаксическим; соответственно, экспансия тенденциозности понимается как захват текстом (дискурсом) сознания. Интерпретативный феноменологический и нарративный анализ позволяют вскрыть работу этого механизма и осуществить коррекцию его функционирования.
Межнациональные отношения и коммуникации, актантная (структурная) семантика, диспозиционистская тенденциозность, интерпретативный феноменологический анализ, нарративный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/170171044
IDR: 170171044 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6845
Текст научной статьи Тенденциозность в межнациональных коммуникациях: механизмы формирования и экспансии, подходы к коррекции
М ежнациональные отношения легко приобретают конфронтационный характер ( discourse of contradiction ), и конфронтационные дискурсы в МНК характеризуются высокой устойчивостью и готовностью к манифестациям,
«заводят» массы. Политика толерантности, идеологемы братства и дружбы и т.п. не решают проблему. Наглядным примером являются бытовые конфликты на национальной почве. В России, где государство последовательно проводит политику межнационального согласия, по данным Центра исследования национальных конфликтов и информационного агентства «Клуб регионов», с 1 сентября 2013 г. по 20 марта 2014 произошли 570 межнациональных конфликтов разного масштаба и степени интенсивности, и в значительном числе случаев эти события приобретали широкий общественный резонанс1 (надежной публичной статистики на период с 2014 по 2019 г. нет, но, по мнению большинства экспертов, межнациональных конфликтов в РФ меньше не стало). Анализ показывает, что значительная часть этих конфликтов по происхождению носили сугубо бытовой характер и приобретали межнациональную окраску в процессе их интерпретации; при этом именно интерпретации «заводили» массы. К примеру, только что происшедшее убийство спецназовца Н. Белянкина освещалось в Интернете так, словно установление национальности убийцы являлось едва ли не основной задачей следствия. «Преступление с первого часа получило широкий резонанс во многом из-за того, что предполагаемыми убийцами, по свидетельству очевидцев, могли быть выходцы из стран ближнего зарубежья», – констатирует Информационное агентство «Версия» в статье с провокационно-показательным названием «Убийство спецназовца ГРУ может “аукнуться” коллективной ответственностью для этнокриминала » 2. В итоге в общественном мнении не «некто С. Ходжоян убил Н. Белянкина», а «армяне убили героя-спецназовца». С точки зрения судопроизводства совершено неважно, какой национальности убийца, а для следствия это имело только функциональное значение – исключительно с точки зрения того, куда попытается убежать преступник. Но для общественного сознания именно это обстоятельство стало основным аттрактором. По аналогичному сценарию развивалась общественная реакция на изнасилование в Якутске3. И здесь «вскоре в СМИ появилась информация, что главный подозреваемый – гражданин Киргизии», эта новость всколыхнула массы: люди вышли на улицы, всего в манифестациях участвовали не менее 5 тыс. чел. [Кутковая 2014]. «Обида на тех, кто “понаехал”, копилась годами», «терпение горожан лопнуло», – комментировали событие в сетях.
Приведенные примеры указывают на существование «самозаводящегося механизма» актуализации, манифестации и экспансии межнациональных конфликтов, для запуска которых бытовые преступления становятся «выстрелом стартового пистолета»: оказывается, что участники «забега» уже «расположились на дистанции» в ожидании некоего «подходящего случая».
«Самозаводящимися» являются и антагонистические международные дискурсы. Ожесточение, с которым с 2014 г. сражаются отечественные и западные СМИ, объясняется не только (и даже не столько) наличием проплаченного заказа на антагонистический дискурс; участники этого дискурса, несомненно, «заводятся» сами и «заводят» массы, легитимируют (наделяют смыслом) антагонизмы, формируют «убеждения» (точнее, пресуппозиции, которыми сами же оказываются «захваченными») и т.п.
В логике affabulation лицо, участвующее в дискурсе в той или иной актант-
Доступ: (проверено 29.10.2019).
ной позиции, наделяется функциональными предикатами (характеристиками), определяющими его «агентность», способ участия в дискурсе; в логике radotage лицо наделяется не связанными условиями функциональности и истинности предикатами, образующими своего рода «мифологику», или «метафизику» дискурса (так, в случае убийства Н. Беленкова тот факт, что убийцей оказался армянин, не имеет никакого функционального значения для судопроизводства). Характеризуя этот способ предикации, А-Ж. Греймас подчеркивает: «Если на уровне отдельно взятых сообщений функции и качественные определения ( qualifications ) представляются как бы приданными актантам, то на уровне дискурсивного проявления происходит нечто противоположное: мы видим, что как функции, так и качественные определения выступают как факторы, создающие актанты, и что в данном случае актанты оказываются вызванными к металингвистической жизни тем фактом, что они являются представляющими и, можно даже сказать, объемлющими классы предикатов». Место, именуемое актантом, становится чем-то вроде корзины, в которую может быть набросано что угодно. Наполнение этой «корзины» предикатами мотивированно, но логически и функционально не опосредованно.
Описанный А.Ж. Греймасом механизм произвольной предикации имеет сходство с хорошо исследованным социально-психологическим феноменом диспозициональной атрибуции. Ли Росс показал, что атрибуция порождает «фундаментальную ошибку атрибуции» и ставит знак равенства между «корре-спондентной (диспозиционистской) тенденциозностью» и «фундаментальной ошибкой атрибуции». «Существует, – по мнению Л. Росса, – особенно важная совокупность свойственных людям тенденциозностей, в которых проявляется фундаментальная ошибка атрибуции. Последняя представляет собой склонность людей игнорировать ситуационные причины действий и их результатов в пользу диспозиционных». А.П. Садохин подчеркивает, что «именно в ситуациях межкультурных контактов существование атрибуций особенно отчетливо».
Но атрибуция рассматривается и исследуется как социально-психологический феномен и механизм. А.Ж. Греймас же говорит о семантико-синтаксическом механизме, о феноменах, порождаемых дискурсом и захватывающих сознание участников дискурса. А.Ж. Греймас соотносит affabulation и radotage с «космологическим» и «ноологическим» измерениями дискурса соответственно. «Любая дескрипция должна быть ориентирована либо на космологическое, либо на ноологическое измерение содержания. Законченная дескрипция космологического измерения составила бы космологию, исчерпывающую знание о внешнем мире. При тех же условиях полная дескрипция ноологического измерения составила бы ноологию, дающую полное представление о внутреннем мире». Ноологическое измерение является «внутренним» не в смысле проекции субъективности участников, а в смысле «внутреннего мира дискурса», который для его участников является интерсубъективным. Эти «внутренние миры» дискурсов далее мы будем называть ноологемами. Принципиально важно, что ноологемы ведут «к созданию объектов, которые в конечном счете [становятся] морфемными структурами» дискурса (в том смысле, в котором В.Я. Пропп называл свой анализ волшебной сказки морфологическим) и «выступают в качестве имманентных моделей [дискурса], предоставленных в наше распоряжение с целью постижения и первоначальной организации содержаний в их семемной форме». Что представляют собой ноологемы, иллюстрирует эксперимент Л. Росса, в котором группам участников предлагали играть в одну и ту же игру, но в одной группе ее называли игрой в «Уолл-стрит», а в другой – игрой в «общину». Основной результат эксперимента состоит в том, что «игроки, [предварительно] оцененные как наиболее склонные к кооперации или преда- тельству, продемонстрировали одинаково низкий уровень кооперации [играя] в “Уолл-cтрит” и одинаково высокий уровень кооперации [играя] в “общину”». Для Л. Росса этот результат указывает на то, как легко «манипулировать интерпретацией»; и он задает вопрос, почему название игры сыграло решающую роль в выборе игроками кооперационных или конфронтационных стратегий.
«Уолл-стрит» и «община» – обозначения «миров», в каждом из которых главенствует своя «специфическая логика», и испытуемые ведут себя в соответствии с этой логикой. Эти названия соотносимы с «нарративными субстанциями Ф. Анкерсмита и «нарративными мирами» Эко Умберто (нарративные миры выдают себя за логически возможные миры, но, в отличие от логически возможных миров, они «не “конструируются”, [а] только “называются”».
Ноологема формируется в конфронтационном дискурсе в несколько этапов:
– на первом этапе посредством мотивированной, но логически не опосредованной предикации создаются актанты, образующие морфемную структуру дискурса (типа протагониста и антагониста);
– на втором этапе морфемная структура эксплицируется и развертывается в формах нарративов. «Нарративная структура сводится… к чисто формальным позициям… которые создают актантные роли»;
– на третьем этапе осуществляется развертывание акториальных структур, в которых предикации приобретают значение мировоззренческих позиций и «убеждений» участников. Актантные «роли манифестируются на более низких уровнях в виде акториальных (actorial) структур, т.е. структур, образуемых действующими лицами (actors) »;
– на заключительном этапе создаются «нарративные субстанции» [Анкерсмит 2003] как выражения все объясняющего и оправдывающего ноологического Целого (или нарративного мира). Это апофеоз ноологии: теперь все, что может быть сказано и «осмыслено», находится внутри «обоснованной» точки зрения (поскольку нарративная субстанция, по Анкерсмиту, «точка зрения на …», «взгляд на …», выраженный в некоей объективирующей взгляд форме сознания; примером являются «субстанции» типа «русский мир», «русская весна»). Это то, что «точно знают», по поводу чего «никогда не спорят», то, что в представлении участников является «аксиомой»; это та самая «идеальная тюрьма», о которой, вслед за М. Фуко, пишет Б. Латур.
«Движущей пружиной» очерченной динамики ноологем являются «дефициты понимания» – деформации герменевтического процесса «набрасывания Целого», превращающие его в порочный логический круг.
Почему ноологема так легко захватывает людей, их сознание? Почему люди без сопротивления помещают себя в «идеальные тюрьмы» ноологем? Основная причина, на наш взгляд, в том, что в актантных (являющихся по своему происхождению синтаксическими) структурах дискурсов люди присутствуют безлично – как актантные функции, роли, «агенты сети». Одним из основных принципов акторно-сетевой теории является принцип эквивалентности людей и не-людей как акторов (агентов) сети [Латур 2014]. Ноологема, по сути, должна легитимировать безличные по своему характеру актантные (функциональные) структуры, создать для них «алиби»; она должна создать не только морфологических актантов, но и располагающих эквивалентностью с не-людьми акторов.
Поэтому для преодоления ноологем нужны методы (практики), «одушевляющие» участников дискурса, обращающие их к личным переживаниям, личностным смыслам, разрушающие актантную (синтаксически-семантическую) эквивалентность людей и «не-людей». Из примера участников форума «Дружба вашего ребенка с армянским» очевидно: легко рассуждая об армянских детях как «виртуальных извергах», они оказываются не столь решительными, когда на деле сталкиваются с дружбой своих детей с армянскими (когда, соответственно, речь заходит не об армяно-азербайджанских, а о личных отношениях, о личных переживаниях).
Мы предполагаем, что герменевтические модели (практики), очеловечивающие дискурс, затрагивающие участников дискурса не идеологически, а экзистенциально и личностно, разрушают circulus vitiosus , побуждают/принуждают к действительному пониманию. Наиболее интересными в этом отношении нам представляются практики интерпретативного феноменологического анализа (как развитие герменевтики в русле экзистенциологии и феноменологии М. Хайдеггера) и нарративной психологии (как ответвление социального конструктивизма).
Познание, или понимание в данном подходе противопоставляется когнитивной модели переработки информации и обозначается как часть базисного отношения к миру, как переживаемое, в котором нечто постигается как знае-мое. В фокусе ИФА находится то, как мир переживается отдельным индивидом, затрагивая экзистенциальные вопросы, требующие личностной рефлексии и переинтерпретации. Исследование сосредоточено на идентичности и ощущении себя, осмыслении и интерпретации, внимании к телесному чувству внутри проживаемого опыта. Субъект простирается в мир, связываясь с событиями, предметами и людьми в контексте того, как они представлены ему в личностном опыте, – это и есть переживание с точки зрения интерпретативной феноменологии.
Во-вторых, релевантными нам представляется подходы, разрабатываемые в русле социального конструкционизма – дискурс-анализ и нарративный анализ. Для нас больший интерес представляет последний, поскольку он обращен к индивидуальному опыту, к процессам понимания конкретных людей, а не общественных идей в целом. Нарративный анализ дает представление о нарративном понимании, которое выражается в рассказывании одной принятой субъектом версии происходящего1. Нарративное понимание непротиворечиво, правдоподобно диалогически и целенаправленно. Концепция нарративного понимания основана на идее, что любую ситуацию человеческого бытия можно интерпретировать разными способами. Конструктивизм отказывается признавать возможность «объективных», не зависящих от точки зрения автора историй. Создавая нарратив, рассказчик старается структурировать события, чтобы в повествовании присутствовал смысл и цель – ценностный результат. Таким образом, нарративное повествование отвечает на вопрос: «что произошло?» или «как это было?». В литературе существуют различные определения нарратива, но мы рассматриваем его в непосредственной связи с дискурсами, а именно как общую категорию, которая выражает нормы и институции, признанные в культуре, для упорядочения опыта, придания ему смысла и становления знания [Eatough, Smith 2017]. Нарративы – это ансамбли историй о самом себе. Цель рассказывания историй с точки зрения дискурсивной психологии – это организация жизненного опыта в значимые эпизоды, которые соответствуют принятым в культуре нормам репрезентации.
Существуют разные способы нарративного анализа, но мы остановили свое внимание на нарративно ориентированном исследовании ( NOI ), поскольку оно включает в себя не только анализ индивидуальных историй, но и критический анализ дискурсов, из которых они проистекают.
Оба метода (ИФА и NOI ) способны дать представление об особенностях про-
29.10.2019).
текания процессов понимания у респондентов. Обоснование одновременного применения двух исследовательских методов кроется в различении фокусов внимания каждого их них. Так, ИФА дает представление о субъекте и его переживаниях, в то время как NOI в большей степени сконцентрирован на языковых практиках, нормирующих дискурсах и влиянии общественных идей на интерпретацию событий отдельным субъектом. Иными словами, в феноменологии предполагается, что опыт переживается субъектом, а в нарративном анализе – рассказывается и конструируется. В нашем исследовании важно попытаться ухватить оба аспекта интерпретации реальности, понять как индивидуальный опыт переживания и осмысления, так и идеи, которые структурируют этот опыт. Также мы ставим перед собой методологические вопросы: будут ли эти способы понимания содержательно отличными друг от друга? Как именно выбор методологии повлияет на получаемые данные?
После проведения исследовательской части работы мы планируем адаптировать один из методов или их авторский синтез с целью обучения субъектов интерпретации для восполнения дефицита понимания в МНК.
Таким образом, современный мир требует от человека постоянного взаимодействия с непрерывно сменяющимися дискурсами. При этом воспитываемые западной системой образования навыки рационального обхождения с информацией, нацеленные на вычленение «объективного» знания (содержания), оказываются бесполезными для понимания дискурсов, в т.ч. для дешифрования присутствующих в них ноологем. Мы предполагаем, что индивидуальный анализ дискурсов и нарративных миров может и должен осуществляться в ракурсе смыслообразования (соответственно, понимания), а не в ракурсе соотнесения их содержания с условиями истинности и функциональности. Именно уровень владения способами понимания (осмысления) связан с «разборчивостью» в дискурсах, способностью оценивать дискурсы.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации на 2019 г.
Список литературы Тенденциозность в межнациональных коммуникациях: механизмы формирования и экспансии, подходы к коррекции
- Анкерсмит Ф.2003. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс. 360 с
- Кутковая Е.С. 2014. Нарратив в исследовании идентичности. - Национальный психологический журнал. № 4(16). С. 23-33
- Латур Б. 2014. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: ИД ВШЭ. 384 с
- Eatough V., Smith J.A. 2017. Chapter 12. Interpretative Phenomenological Analysis. - The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: Sage