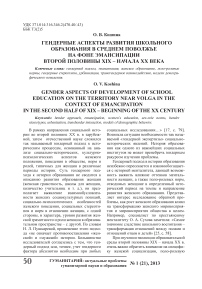Тендерные аспекты развития школьного образования в Среднем Поволжье на фоне эмансипации второй половины XIX начала XX века
Автор: Кошина Ольга Владимировна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена гендерным аспектам развития школьного образования в Среднем Поволжье в контексте эмансипации второй половины XIX – начале ХХ века. Автор анализирует темпы и направления развития женского образования в связи процессами эволюции гендерных стереотипов, урбанизации, изменения модели демографического поведения.
Гендерный подход, эмансипация, женское образование, поло-ролевые нормы, гендерные стереотипы, урбанизация, трансгендерное взаимодействие, модели демографического поведения
Короткий адрес: https://sciup.org/14720738
IDR: 14720738 | УДК: 371.014:316.346.2(470.40/.43)
Текст научной статьи Тендерные аспекты развития школьного образования в Среднем Поволжье на фоне эмансипации второй половины XIX начала XX века
В рамках направления социальной истории во второй половине ХХ в. в зарубежной, затем отечественной науке сложился так называемый гендерный подход к историческим процессам, основанный на анализе социально-исторических, культурнопсихологических аспектов женского положения, поведения в обществе, норм и ролей, типичных для женщин в различные периоды истории. Суть гендерного подхода к истории образования не сводится к описанию развития образования женщин (женская грамотность, школы для женщин, количество учительниц и т. д.), он предполагает выявление взаимообусловленности женских социокультурных позиций, социально-психологических особенностей женского поведения, социальных стереотипов и норм в отношении женщин, с одной стороны, и характера, уровня развития женской грамотности и роли женщин в образовательном пространстве – с другой. По словам Н. Л. Пушкаревой, применение этого подхода «не означает противопоставления «женской» и «мужской» истории. Большинство исследователей согласились с тем, что гендерный подход или, точнее, учет гендерного фактора абсолютно необходим при любых социальных исследованиях…» [17, с. 79]. Возникла ситуация необходимости так называемой «гендерной экспертизы» социальноисторических явлений. История образования как одного из важнейших социальных институтов не может пренебречь гендерным ракурсом изучения проблемы.
Гендерный подход в истории образования неизбежно пересекается и взаимообогащает-ся с историей менталитета, дающей возможность выявить влияние оттенков ментальности женщин, а также поло-ролевых норм, отводимых женщине в определенный исторический период на темпы и направление развития женского образования. Представляет интерес исследование обратной проблемы, как рост женского образования влиял на трансформацию женского мировосприятия и мировосприятия общества в целом. Например, специалист по крестьянскому менталитету О. А. Сухова заметила: «Самое значимое следствие школьного воспитания – трансформация отношений между полами и отношений отцов и детей» [25, с. 58].
При изучении эволюции образовательной среды второй половины XIX – начала ХХ в. очень важно обратить внимание на специфику женской социализации, поло-ролевую идентичность, свойственную или навязанную обществом женщинам, особенности социального взаимодействия, приписываемого в соответствии с полом в изучаемый период. Период рубежа XIX–ХХ вв. оказался в центре внимания не случайно: он прекрасно обеспечен источниками и демонстрирует стремительность процессов эмансипации и эволюции трансгендерного взаимодействия. По словам Н. Л. Пушкаревой, «при анализе реалий социальных отношений и отношений полов в пореформенной России вполне применимо понятие из современного феминизма: гендерный конфликт – ниспровержение идентичности» [16, с. 95].
Во второй половине XIX в. распространенность женского образования значительно отставала от мужской. В сельских начальных школах по 60 губерниям Европейской России в 1880 г. девочки составляли 20 % учеников, а мальчики – 80 %. В 1880 г. на территории Среднего Поволжья среди девочек учебного возраста учащихся было 3 %, а среди мальчиков – 13 % [21, с. 32–34].
Судьба сельской женщины была во многом обусловлена общинным, патриархальным бытом. Стереотипы, установки о преимущественно хозяйственных и материнских функциях женщины передавались из поколения в поколение. Идеология патриархального общества была ориентирована на поддержание потребностей и ценностей мужчин. Поведение и сознание женщины определяли гендерные стереотипы, а не личностная идентичность. К образованию девочек проявлялось равнодушие. В натуральном хозяйстве было высоко значение их труда, а в обществе преобладало убеждение в бесполезности образования женщин. На женщину в крестьянской среде смотрели прежде всего как на рабочую силу.
Городское население более лояльно относилось к женскому образованию. Женская грамотность (в возрасте от 9 до 49 лет) по переписи 1897 г. в городах уже приближалась к 46 %, а в сельской местности составляла только 12 % [1, с. 91]. Ученицы составляли в городских училищах более заметную часть (40 % всех учеников), чем в сельских (12 %) [11, с. 57]. В конце XIX в. городские учительницы составляли 64 % учителей в Симбирской губернии, а сельские – всего 43 % [12, с. 31–33].
После отмены крепостного права статус женщины-крестьянки изменился. Одним из катализаторов этого процесса стало отходничество. Малоземелье толкало крестьян к поиску дополнительных заработков. В города на временную работу стали уходить и женщины. Как правило, это были молодые незамужние крестьянки, или бездетные вдовы, или «засидевшиеся в девках» крестьянки. Участие женщин в отходничестве меняло их положение в общине, изменялся традиционный взгляд на роль женщин в семье и крестьянском хозяйстве. У женщин, участвовавших в отходе, появлялась определенная экономическая независимость, расширялись их кругозор, самостоятельность, чувство собственного достоинства. Среди них было много грамотных.
Менялся и статус жен отходников. По наблюдениям Барбары А. Энгел, «замужняя за отходником крестьянка становилась связующим звеном между городом и деревней. Она должна была быть грамотной, чтобы писать письма в город мужу о нуждах семьи. Грамотность нужна была, чтоб иметь дело с властями, вести хозяйство без мужа, выполнять различные обязанности. Часть хозяйственных забот и общественных функций ложилась на ее плечи. В областях с развитым отходом детей чаще отдавали в школу. Даже если девочка сидела дома с младшими детьми, отцы братья, старшие сестры или вдовы обучали ее грамоте» [Цит. по: 9, c. 75–83].
Отходничество нарушало традиционные отношения между полами. Жены отходников вели себя более независимо, знали цену себе и своему труду, брак приобретал черты сотрудничества. В областях, где отход был развит, наблюдалось относительное преобладание власти женщин. Исследователи фиксируют рост роли женщин в местном самоуправлении в отходнических селах. В 1890 г. Сенат постановил, что женщины – главы семей имеют равное с мужчинами право голоса на деревенском сходе [9, с. 75–91].
Таким образом, по мере усиления контактов деревни с городом крестьяне приходили к осознанию необходимости женского образования. На вопрос о пользе обучения девочек статистик Ф. А. Щербина в конце XIX в. получил 68 % положительных ответов, только 16 % безразличных и 15 % отрицательных [26, с. 38].
Сами крестьянки к началу ХХ в. постепенно стали избавляться от гендерных стереотипов крепостной эпохи и осознавать необходимость обучения грамоте для облегчения своей жизни. Крестьянские наказы периода первой русской революции содержали обращения, составленные женщинами, в которых они называют причины своей низкой грамотности и говорят о необходимости ее повышения. Из наказа крестьянок с. Старый Буян Самарской губернии: «Мужики говорят: “У бабы волос долог, да ум короток” и забывают при этом, что сами виноваты в неразвитости нашей. Еще не так давно отцы наши говорили: “На что девке грамота, и так замуж выйдет”. Кроме того нужда и непосильная работа отнимают у нас много сил и негде, да и некогда нашим бабам уму-разуму набираться. Наравне с мужиками несем мы полевые работы, а домашнее хозяйство целиком почти на нас лежит. Понятно, некогда тут уж о себе подумать, книжку полезную почитать. А ведь мы такие же люди, как и все. Дайте нам возможность позаботиться о том, чтоб устроить себе человеческую жизнь» [7, с. 76]. В связи с этими фактами можно рассматривать проблему женской эмансипации сквозь призму самоэмансипации.
Парадоксально то, что те же гендерные стереотипы, что сдерживали рост женской грамотности (представление о предпочтительно семейных, материнских, хозяйственных функциях женщин), с определенного времени послужили катализатором просветительских мероприятий в отношении женщин. Развитию женского образования немало способствовало распространение в общественном сознании убеждения о плодотворном влиянии образованной женщины на нравственную атмосферу семьи и общества. По словам известного русского педагога В. Я. Стоюнина, «…какая сильная потребность в небогатых семьях учить дочерей. Это был первый призыв всех городских сословий к образованию женщин и будущих матерей семейств, а следовательно, к нравственному возвышению русской семьи, без чего нельзя было бы ожидать и усовершенствования общественной нравственности» [24, с. 441].
Общественные деятели и педагоги изучаемого периода говорили о пагубности низкого уровня образования женщин не только для их собственного умственного развития и приобретения равных с мужчинами общественных прав, но и для отношений в семье, а также для успешного развития самого мужчины: «Неравенство образования, общественных и семейных прав мужчины и женщины вносят в их отношения деспотизм и рабство. На воспитании детей отражается дисгармония жизни воспитателей» [10, с. 33]. «Жена будет умерять или даже останавливать каждый решительный шаг мужа, ибо польза общества будет казаться ей чуждою или, пожалуй, враждебною семейным интересам» [10, с. 61]. «Не только нравственность мужчины, но и умственное его развитие страждет от ограниченного образования и бесправности женщины. Женщина может благоговеть перед высоким развитием своего мужа, но сознавать его цены не может. А муж постоянно, может быть незаметно самому себе, суживает свою мысль, стараясь согласовать ее с неразвитием жены» [10, с. 65–66].
В «Журнале Министерства народного просвещения» в 1884 г. была напечатана статья священника К. Лорченко «В какой школе нуждается крестьянская семья для улучшения быта своего», где он высказывает мысль о необходимости создания женских школ для взрослых с целью развития их хозяйственных и родительских навыков: «Мать – зиждущая сила семьи. Дайте семье мать просвещенную Светом Христовым, свободную от предрассудков и суеверия, невежества, сведущую в санитарии и гигиене, опытную в садоводстве, пчеловодстве, огородничестве, ремеслах. Девочки учатся в школах в 9–12 лет, что слишком рано, они все это не усвоят. Да и ребенок не авторитет в семье. Рядом с низшей народной школой надо иметь высшую – для взрослых крестьянских девушек – может быть в виде общины сельских сестер милосердия» [5, с. 43–46].
На рубеже веков появилось огромное множество различных обществ, ставящих своей целью заботу о здоровье, просвещении и отстаивании прав женщин. «Журнал Симбирского губернского собрания» за 1901 г. сообщал о деятельности Общества распространения практических знаний между образованными женщинами: «Общество имеет целью распространение практических знаний, приложимых в домашнем быту, как для доставления матерям семейств собственными силами удовлетворять потребности семьи и жизни, так и для обеспечения существования женщины и девушки личным трудом. С самого начала своей деятельности в 1888 г. Общество постепенно открывало женские профессиональные школы. В настоящее время при Обществе действуют следующие учреждения: Школа кройки и шитья платья; школа мод с учебной мастерской при ней; школа рукоделий; кулинарная школа с образованием учительниц поварского искусства и экономок; школа черчения и рисования; школа коммерческого счетоводства с курсами: каллиграфии, стенографии и письма на машинах; школа домоведения с образованием учительниц домоводства; посредническое бюро для указания способов и случаев применения ремесленных, рукодельных, хозяйственных знаний и доставления мест и занятий нуждающимся женщинам. Эти знания и умения необходимы для каждой благоустроенной семьи всякого состояния и положения с целью сохранения здоровья, сокращения расходов в хозяйстве, одежде, в быту, его улучшения. Одинокая женщина приобретает в этих умениях заработок. Польза всем классам населения, в нравственном и материальном отношении очевидна. Сложное положение русского землевладения обусловлено сложными причинами, к числу которых относится обстоятельство, что успешное и экономное ведение хозяйства, особенно домашнего, зависит от подготовки хозяйки – жены и матери. Образованная женщина будет более усердным и полезным сотрудником мужу-хозяину. Профессиональные знания облегчат жизнь в помещичьей усадьбе, хозяйка сможет подготовить для домашнего обихода прислугу из местного крестьянского населения» [6, с. 508–511].
Во второй половине XIX – начале ХХ в. в некоторых губернских городах и пригородных селах появились ясли с целью облегчения трудовой деятельности женщин. Пензенские губернские ведомости за 1900 г. сообщали: «Недавно (в 1899 г.) в г. Пензе по инициативе и заботами Ее Сиятельства графини Е. Н. Адлерберг основан приют-ясли, принятые в ведомство Императрицы Марии. Ясли создавались разных типов: 1. Ясли, где матери-крестьянки на целый день оставляли грудных детей нянькам и кормилицам. Детям обеспечивали кормление, одежду, белье, а ночью забирали домой. 2. Ясли-приюты, где оставались дети с года до 13 лет. Им обеспечивали только надзор и кормление. 3. Ясли исключительного типа, где дети находились по домам под надзором надзирательниц или женщин из того же села. Самые дешевые. Работали все ясли до 6–7 часов вечера с середины июня до середины августа. Организаторами и помощниками были, как правило, местная интеллигенция (помещики, земские врачи, учителя, духовенство), а также частные благотворительные общества, Красный Крест, попечители домов трудолюбия, отделения обществ охраны общественного здоровья и земства. В роли нянек часто выступали девочки 12–13 лет. Помещениями для ясель служили школьные здания (летом каникулы), крестьянские избы, редко – специальные бараки. Инвентарь покупался матерями: ложки, колыбели, постель» [14].
Похожее сообщение сделала Самарская уездная земская управа в 1906 г. об открытии яслей-приютов в селах Самарского уезда: «Помощник уполномоченного по оказанию трудовой помощи в местностях, постигнутых неурожаем, просит Управу на 400 руб. открыть 5 яслей-приютов от Комитета трудовой помощи в селениях, где в них нужда по сведениям Санитарного бюро губернского земства. Заведывают яслями, как правило, земские врачи или жены священников» [29. Л. 2, 19, 21, 38, 45, 39–40].
Во второй половине XIX – начале ХХ в. гендерная установка на несовместимость социальной роли женщины с профессиональной деятельностью была подвергнута сомнению. Появилась массовая профессия, где стал востребованным женский труд, – учительница начальной школы. Если в первой половине XIX в. учителями сельских школ были преимущественно мужчины, то в 1870-е гг. в них появились учительницы. В следующее десятилетие женщины уже составляли пятую часть учительского персонала.
13 мая 1903 г. министр народного просвещения спустил распоряжение попечителю Казанского учебного округа: «озаботиться специальной подготовкой народных учительниц, приняв вместе с тем надлежащие меры к ограждению их от тяжелых нрав- ственных и бытовых условий, которые ставят в беспомощное положение беззащитных тружениц. Прошу принять к руководству при обсуждении вопроса об учреждении женских учительских семинарий» [18. Л. 64].
В декабре 1903 г. Министерство народного просвещения выпустило циркуляр попечителям учебных округов о привлечении в состав учительских семинарий молодых людей из сельского населения, который касался и женщин: «1. Из воспитанников двухклассных сельских училищ Министерства народного просвещения местным инспекторам отбирать лучших желающих учеников не более 15-летнего возраста к поступлению в учительские семинарии до достижения 16 лет с назначением стипендии 3–5 руб. в месяц; 2. Этим стипендиатам выделить помещение в училищных домах или разрешение жить на частных квартирах в местах нахождения училищ или у родителей. Эти правила применить и к девицам – в женских учительских семинариях. Эти меры применить, не дожидаясь открытия в этой местности женской учительской семинарии» [18. Л. 96–97].
К началу ХХ в. учительский труд стал прерогативой женской половины населения Среднего Поволжья. Например, в Пензенской губернии выросло число учительниц начальных школ с 33 % от всего количества учителей в 1894 г. до 68 % в 1914 г. [23, с. 13]. Наряду с изменениями в общественном сознании, это было обусловлено социальноэкономическими причинами. Низкое жалованье и неопределенный социальный статус учительской профессии не могли привлечь большое количество мужчин. При наличии хорошего образования мужчина стремился к более высокооплачиваемой и социально защищенной профессии. Женщины, не имея возможности осваивать более престижные профессии, мирились с нелегкой долей учительницы начальной школы.
Преобладание женщин в учительском персонале мужских сельских школ вызвало даже несвойственные ранее начальной деревенской школе проблемы. В 1895 г. инспектор народных училищ Николаевского уезда Самарской губернии сообщал: «Я предложил на несколько лет прекратить назначение учительниц в мужские училища, т. к. число учительниц в последнее время значительно преобладает над мужским персоналом, что повлияло на сокращение церковных хоров в селах и не может служить к развитию в уезде училищных садов, огородов и пчельников, а также ремесленных знаний. Уездный училищный совет не согласился с моим предложением» [28. Л. 269 об.].
Особенности финансирования народных школ способствовали неравномерному распределению мужчин и женщин в коллективах разных типов школ. Преобладая к началу ХХ в. над мужчинами в земских школах и ЦПШ, женщины все еще уступали им в министерских училищах. Женская эмансипация не означала наличия здоровой конкуренции с мужчинами в поиске места в начальной школе.
В иностранной литературе по истории образования даже возник спор о наличии конкуренции мужчин и женщин, претендующих на места в городских школах. Вывод К. Руан о том, что мужчины-учителя стремились удержать лидирующие позиции в своей профессии, не допустить женщин, встретил критику историков педагогики и эдукологов: они приводят обратные факты – трансгендерной солидарности учителей и учительниц [19].
Исследование возрастного состава и семейного состояния учительниц в училищах региона во второй половине XIX в. выявило их заметную молодость. Подавляющее число учительниц составляли девушки 16–25 лет (80 %), в основном незамужние (89 %) [21, с. 213]. Среди мужчин холостяки составляли только 58 %. Замужних среди женщин было всего 5 %, а женатых мужчин – достаточно много (40 %). Небольшой процент приходился на вдовых учительниц (5 %) и учителей (2 %) [22].
Исторические свидетельства, оказавшиеся в наших руках, дали основание предположить, что массовое безбрачие учительниц объяснялось в некоторых случаях не только их молодостью и бедностью, но и прямым запретом училищных властей на вступление учительниц в брак.
Неоднозначная ситуация возникла в конце ХIХ в. в Петербурге, когда Петербургская училищная комиссия представила в городскую думу доклад о том, что кандидатам на учительские должности необходимо ставить условие безбрачия и бездетности. Правило, правда, не распространялось на уже работающих учительниц. Парадокс в том, что дума в 1897 г. приняла это правило к действию. Мотивы подобного запрета выдвигались следующие: во-первых, возможность взаимного заражения инфекционными заболеваниями семьи учительницы и ее многочисленных учеников; во-вторых, невозможность совмещать домашние хлопоты и воспитание собственных детей с успешной педагогической деятельностью.
Продолжение этой нелепой, на первый взгляд, истории было не менее драматическим. Отдельные члены училищной комиссии и некоторые гласные, не согласные с чрезмерным требованием, предъявляемым к учительницам, несколько раз предлагали отменить ограничения, заявляли протесты в думу за подписью сотен городских учительниц. Их аргументы состояли в том, что это требование нарушает права человека, напоминает времена крепостничества. Тем более что в учительницы в городах идут преимущественно бедные девушки. В самых ярких выступлениях гласные на заседании думы приводили сравнения с дирекцией императорских театров, которая, имея больше причин вводить правило безбрачия для своих балерин, тем не менее не сделала этого.
Другие гласные взывали к законам психологии, которые подсказывают, что только мать, которая имеет своих детей, лучше поймет и другого ребенка. Самые эмоциональные депутаты вопрошали, неужели комиссия возьмет на себя обязанность сыскных агентов: ведь немыслимо запретить вступать в гражданский брак.
Протесты поступали в думу и от Петербургского педагогического общества взаимопомощи, Комитета Харьковского общества взаимопомощи трудящихся женщин, Общества взаимовспоможения окончивших курс наук на Высших женских курсах, Совета русского женского взаимного благотворительного общества, Общества охранения здоровья женщины и др. Но училищный совет и дума остались непреклонны.
Автор статьи, из которой мы узнали об этой истории, в итоге констатировал, что, несмотря на очевидную нелепость запрета, его сторонниками оставались такие уважаемые общественные деятели, как русский историк, публицист, редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич, драматург А. П. Потехин. Петербургскому обывателю только оставалось в отчаянии «посвистать» в «историческом» заседании петербургской думы. Самое печальное, что поводом к написанию статьи послужило известие о том, что в Саратове был поднят аналогичный вопрос о запрете на вступление в брак для учительниц начальных городских училищ [2, с. 364–370].
Проблема обсуждалась и в других печатных изданиях. В «Вестнике воспитания» за 1903 г. в разделе «Рефераты и мелкие сообщения» была представлена брошюра Говорова «Брачный вопрос в быту учащих начальной школы», составленная в виде доклада I Всероссийскому съезду учительских обществ взаимопомощи. Автор говорил о настороженном отношении школьного начальства многих губерний к замужним или собирающимся замуж учительницам. Упоминалось и правило 1897 г., принятое в Петербурге городской думой о предпочтении незамужних кандидаток на должность учительниц начальных школ. Мотивами ограничений для замужних школьная администрация называла интересы школьного дела: большая возможность безбрачных отдаваться школьному делу, аккуратность, отсутствие детей, обременяющих учительниц заботами об их здоровье и развитии. Скрытыми мотивами школьной администрации Говоров считал кажущуюся легкость управления бессемейными учительницами, отсутствие необходимости обеспечивать им достойные условия проживания и материального обеспечения их потребностей, предоставлять отпуск на время родов и по болезни детей.
Говоров провел анонимный опрос среди городских и сельских учителей Москвы и Московской губернии. Подавляющую часть ответивших составили незамужние женщины: 80 % из них высказались за желательность брачного состояния учителей. Только 20 % респондентов увидели в нем помеху для успешных педагогических занятий. 81 % ответивших бессемейных учительниц назвали свое состояние вынужденным: они отказались от брака из опасения лишиться места или оказаться в трудной материальной си- туации. Только 19 % учительниц осознанно не вышли замуж, считая брак помехой своей работе.
Во многих ответах содержались указания на то, что замужних учительниц в школах притесняют, стараются вытеснить со службы, при вступлении в брак пытаются заставить покинуть место, а в случае уже состоявшегося замужества не дают должности старшей учительницы. Причем остракизму подвергались одинаково как незамужние бездетные девицы, так и вдовы с детьми. Во многих ответах нарисована психологическая ситуация в отношении замужних: их в школе «терпят».
Учительницы называли в анкетах и другие причины распространенного безбрачия: низкое материальное обеспечение, недостаток квартир, шаткость учительского положения, беспокойство за судьбу своих детей, изолированность учительниц в силу из чрезмерной занятости в школе и отсутствия круга культурных людей, необходимых для общения. Занятия в школе, проверка тетрадей, дополнительные занятия с отстающими детьми, внеклассные мероприятия, необходимость готовиться к урокам не оставляли у учительницы начальной школы времени на устройство личной жизни.
Сторонники семейного состояния учительниц указывали на нелепость ограничений школьной администрации в отношении замужних и говорили о том, что качество работы учительниц зависит не столько от их семейных обстоятельств, сколько от личных качеств. Незамужнюю учительницу с таким же «успехом» могут обременять проблемы с ее родителями, братьями, сестрами. В свою очередь незамужняя учительница, отдаленная от многих жизненных проблем, будет слишком суха и педантична в отношении воспитанников. Отвечавшие указывали на вредное воздействие безбрачия на физическое здоровье и психическое состояние женщины: внебрачные связи, придирчивость, раздражительность, подавленность, неудовлетворенность жизнью по причине вынужденного одиночества.
Но самое главное отрицательное последствие безбрачия и бездетности – это неумение и нежелание понять обучаемых детей, причины их проступков и сложностей в обу- чении, незнание всех особенностей их развития в силу отсутствия жизненного опыта на примере своих детей. Поэтому вывод, к которому пришел автор брошюры, состоял в том, что вместо запрета на вступление в брак школьная администрация должна облегчить замужним учительницам условия их быта и воспитания детей [3, с. 84–96].
Приведенная выше история, без сомнения, свидетельствует о сохранении в общественном сознании (даже части просвещенного сообщества) конца XIX – начала ХХ в. устойчивых стереотипов о возможности нарушения человеческих прав женщины. Ведь запрет касался в первую очередь учительниц. Никому и в голову не пришло запрещать жениться учителям-мужчинам в гимназиях с целью освободить их время и силы для более плодотворной педагогической деятельности. Женская эмансипация на рубеже веков приобретала порой причудливые черты. Допустив женщину к одной из важнейших социальных ролей – обучению и воспитанию подрастающего поколения, общество одновременно продолжало нарушать очевидные неотъемлемые права женщин на свободу выбора личной судьбы.
Во второй половине XIX – начале ХХ в., кроме педагогической деятельности, женщины постепенно вовлекались и в другие сферы общественного труда. В 1871 г. император Александр II признал необходимый круг полезной для государства служебной деятельности лиц женского пола: «1. Содействовать курсам акушерских наук. 2. Занятия фельдшерские и по оспопрививанию, аптекарские в женских лечебных заведениях. 3. Учительниц в начальных школах и нижних классах женских гимназий. 4. По телеграфному ведомству: сигналисты и телеграфисты. 5. Канцелярские и другие должности в правительственных учреждениях» [4. Л. 5].
В конце XIX в. стала распространенной практика предпочтения женского персонала во врачебном надзоре в женских гимназиях. В 1900 г. в 11 из 58 гимназий Харьковского учебного округа не было врачей. «Пензенские губернские ведомости», ссылаясь на официальные распоряжения Министерства народного просвещения, писали: «Желательны женщины-врачи! Пока только в 2-х гимназиях врачи-женщины. Сегодня женщины- врачи уравнены в правах на практику в женских учебных заведениях. С 1898 г. им даны права государственной службы» [13].
Педагоги того времени говорили о том, что женское образование – это не самоцель: «Надо открыть женщине свободный доступ ко всем родам деятельности, теперь составляющими исключительную привилегию мужчины. Иначе само образование не будет достигать цели, будет мертвым капиталом для общества и тяжелым преимуществом для женщины, у которой нет возможности применить к делу свои дарования» [10, с. 70].
Однако главным призванием женщин и «социальным заказом» для них оставалась роль достойной жены и матери. На рубеже XIX–ХХ вв. особенно актуальными стали вопросы изменения стиля взаимоотношений супругов и новых форм семейного воспитания в связи с изменением положения женщины, вовлечением ее в общественную деятельность. Традиционный повседневный семейный уклад менялся в связи с процессами урбанизации, с ростом уровня образования, материальной и психологической независимости женщин.
Необходимость женского образования росла в связи с изменением модели демографического поведения, особенно городского населения. В связи с индустриальными процессами снижался коэффициент брачности, сокращалось количество ранних браков. Как заметил В. Д. Сиповский, «необходимость женского образования была вызвана ростом числа незамужних и необеспеченных женщин» [20, с. 26]. Девушки из интеллигентных семей конца XIX в. пересматривали отношение к браку, не торопились выходить замуж. У них изменились жизненные приоритеты: они стремились учиться, жить своим трудом, не хотели сидеть на шее родителей, некоторые принимали участие в общественной деятельности.
Патриархальная семья перестала быть единственной моделью брака и взаимоотношений с детьми. Появились другие, обусловленные социальными трансформациями, варианты семей: малая бездетная семья, малодетная семья, гражданский брак, фиктивный брак и т. д. Меняется и сама патриархальная семья. Уходит в прошлое неоспоримый авторитет отца и мужа, родителей в целом. В отношениях супругов появляются элементы партнерства, а авторитет у детей следовало завоевывать [15, с. 176].
Оборотной стороной повышения уровня женского образования и вовлечения женщины в общественную и профессиональную деятельность стало изменение трансгендерных взаимоотношений и потеря психологической стабильности и однозначности в самовосприятии женщинами своих внутрисемейных позиций. С одной стороны, положение образованной женщины стало более независимым, свободным, с другой – более сложным и менее защищенным.
С трансформацией семьи был связан и вопрос о воспитании детей. Старые приемы воспитания уходили в прошлое, а новые еще не сложились. Образованные матери понимали, что в деле воспитания нужно заниматься самообразованием, опираться на психолого-педагогическую литературу. Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. стали популярными родительские кружки, курсы для родителей, просветительские общества, которые создавались с целью обсуждения вопросов воспитания, организации досуга детей, помощи школам.
В 1884 г. усилиями директора Педагогического музея генерала В. П. Коховского, преподавателя математики П. А. Литвин-ского, врача А. С. Вирениуса и известного педагога П. Ф. Каптерева в Петербурге возник Родительский кружок. На призыв организаторов отозвались родители, педагоги, врачи, детские писатели, интересующиеся вопросами воспитания. Кружок стал расти и развиваться. Протоколы и отчеты заседаний кружка публиковались в педагогических журналах: «Воспитание и обучение» (его редактор и издатель А. Н. Альмединген был одним из учредителей кружка), «Женское образование», «Русская школа».
В 1890 г. кружок стал одним из отделов Педагогического музея военно-учебных заведений в Петербурге. В 1906 г. кружок превратился в самостоятельное учреждение. На собраниях Родительского кружка читались выдержки из дневников родителей, доклады педагогов и психологов по разным вопросам семейного воспитания, сообщения о книжных новинках. Кружок проводил выставки детских игрушек, готовил аналитиче- ские записки для Государственной думы по вопросам взаимодействия семьи и школы, рассылал анкеты и результаты своей работы в родительские комитеты и педагогические общества Петербурга, Москвы, провинциальных городов. Совместно с Обществом попечения о бедных и больных детях была создана школа нянь при Фребелевском обществе. В 1898–1901 гг. Родительский кружок издал 59 выпусков энциклопедии семейного воспитания и обучения. К 300-летию со дня рождения Я. А. Коменского при Педагогическом музее был создан отдел имени Коменского с целью распространения его педагогических идей, в частности его концепции материнской школы. Отделения Родительского кружка открылись в Астрахани, Чернигове, Чите, Ростове-на-Дону и других городах [8, с. 70–80].
Кружок активно участвовал в организации и проведении Первого Всероссийского съезда по семейному воспитанию в декабре 1912 – январе 1913 г. [27]. Членами Родительского кружка была создана специальная комиссия по выработке программы занятий матерей и нянь. Главное внимание предлагалось уделить подготовке к уходу за ребенком в первые три года его жизни. В программу предлагалось включить не только теоретические занятия (лекции и беседы), но и практику (дежурства в яслях, занятия в больницах, знакомство с организацией игр детей) [8, с. 78].
Содержание обсуждения проблем семейного воспитания на всероссийском съезде свидетельствовало о начале крушения патриархальных гендерных стереотипов. Хотя приоритетной ролью женщины в обществе по-прежнему оставалась роль жены, матери и хозяйки дома, эти социальные позиции женщины больше не воспринимались как позиции жертвы, подчиненной суровым жизненным обстоятельствам и патриархальным установкам. Женщина выступала как самостоятельный субъект семейных отношений, достойный уважения и нуждающийся в поддержке общества. Общественные организации, просветительские общества, такие как Родительский кружок в Петербурге, пытались помочь женщине выполнять свои функции грамотно, опираясь не только на жизненный опыт, но и на знания, достижения науки.
Процесс гендерных трансформаций проходил не безболезненно. Менялись взаимоотношения супругов, ломалась старая система воспитания. Женщина нередко продолжала оставаться заложницей семейно-материнских и хозяйственных обязанностей, одновременно включаясь в активную профессиональную и общественную деятельность.
Таким образом, гендерный подход позволил многомерно и объемно рассмотреть преломление процесса женской эмансипации в эволюции образования. В ходе модернизации, сопровождавшейся развитием промышленности, урбанизацией, трансформацией общественного сознания, ментальных установок, структуры социальных и гендерных отношений, женское образование на территории Среднего Поволжья получило импульс для развития. Социально-экономические и социокультурные преобразования эпохи скорректировали гендерные стереотипы, изменив степень вовлеченности различных социально-демографических слоев в сферу образования. На протяжении исследуемого периода произошло изменение общественного взгляда на необходимость женского образования, чему способствовали, как ни странно, и старые поло-ролевые нормы и стереотипы, например, о преимущественно материнских и хозяйственных функциях женщины.
Развитие отходничества, рост численности городского населения, изменение модели семьи способствовали распространению образования среди женщин. Темпы развития женской эмансипации в Среднем Поволжье были несколько медленнее, чем в целом по стране. Высокая востребованность женского труда в условиях сельскохозяйственного характера деятельности населения региона усложняла процесс вовлечения женщины в сферу образования.
В свою очередь рост женской грамотности и развитие женского образования стали одним из серьезных факторов женской эмансипации. Образованные женщины были востребованы чаще всего в педагогической деятельности. Учительская профессия, будучи до середины XIX в. прерогативой мужчин, в начале ХХ в. стала преимущественно женской. Предпринятое демографическое исследование состава учителей выявило значительную молодость и преимуществен- ное безбрачие учительниц средневолжских губерний, что было во многом обусловлено медленным ростом материального и социального статуса профессии, а нередко и прямыми запретами школьной администрации.
В начале XX в. спектр профессий, которые осваивали женщины, расширился. Кроме сферы образования, грамотные женщины находили себя в медицине, канцелярском деле, телеграфном ведомстве, швейном деле и т. д. Гендерная установка на несовместимость социальной роли женщины с профессиональной деятельностью рухнула.
Рост образовательного уровня женщин способствовал гуманизации семейных и общественных отношений, более правильной постановке воспитательного процесса, трансформации гендерной самоидентификации женщин и обогащению поло-ролевых установок общества в отношении женщин. Женская эмансипации была сопряжена с процессом самоэман- сипации. Образование было для многих женщин уже не только средством прокормиться в условиях переходной эпохи, но и самоцелью, одним из жизненных приоритетов, частью системы ценностей, способом самоутверждения.
Оборотной стороной эмансипации стало изменение трансгендерных взаимоотношений, потеря психологической стабильности и однозначности самовосприятия образованными женщинами, нередко остававшимися заложницами бытовых и материнских функций. Общественные организации, просветительские общества, родительские кружки, система дошкольного образования в виде ясель помогали женщинам смягчить неоднозначные последствия трансформации идентичности.
Процессы женской эмансипации, а также эмансипации общества в целом и развития женского образования были взаимосвязаны и взаимно обусловлены.
Список литературы Тендерные аспекты развития школьного образования в Среднем Поволжье на фоне эмансипации второй половины XIX начала XX века
- Богданов II. М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР: ист.-стат. очерки/И. М. Богданов. М.: Статистика, 1964. 195 с
- Борисов П. Праздный вопрос (К вопросу о безбрачии городских учительниц)/П. Борисов//Пед. листок. 1910. -№ 5. С. 364-370
- Брачный вопрос в быту учащих начальной школы//Вестн. воспитания. 1903. № 5. -С. 84-96
- Государственный архив Пензенской области (ГАЛО). Ф. 81. On. 1. Д. 737
- Журнал Министерства народного просвещения. 1884. Ч. CCXXXVI. С. 42-49
- Журналы Симбирского губернского собрания. 1901. № 35. С. 508-511
- Крестьянские наказы Самарской губернии (Опыт собирания материалов русской революции). С вступительными статьями А. А. Васильева и В. А. Кудрявцева. Самара.: Тип. А. Н. Харди-на, 1906.-88 с
- Кудряшев А. В. Становление семейной педагогики в России на рубеже XIX-XX веков/А. В. Кудряшев//Вест. Моск. гор. пед. ун-та. Серия Педагогика и психология. 2010. № 4 (14). С. 70-80
- Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.): материалы Междунар. конф. М.: Рос. полит, энцикл. (РОССПЭН), 1996.-440 с
- Михайлов М. Л. Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе/М. Л. Михайлов//Из «Современника» 1858-1866 гг. -СПб., 1903. -С. 3-72.
- Начальное народное образование в России. СПб.: Тип. т-ва «Нар. польза», 1900.-Т. 1,407 с
- Начальное народное образование в Симбирской губернии по данным 1902-03 у/г. Симбирск: Губ. тип., 1905.148 с
- Пензенские губернские ведомости. 1900. -№ 25
- Пензенские губернские ведомости. 1900. -№ 46
- Пономарева В. В. Мир русской женщины: семья, профессия, домашний уклад XVIII начала XX в./В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова. М.: Новый хронограф, 2009. 352 с
- Пушкарева Н. Л. Русская женщина: история и современность. История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800-2000: материалы к библиографии/Н. Л. Пушкарева. М.Ладомир, 2002. 526 с
- Пхшкарева Н. Л. Тендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы/Н. Л. Пушкарева//Вопр. истории. 1998. № 6. С. 76-86
- РГИА (Рос. гос. ист. арх.). Ф. 733. Он. 227. Д. 2
- Ruane Ch. Gender. Class and the Professionalization of Russian City Teachers 1860 1914 / Ch. Ruane. Pittsburgh, 1994; Ruane Ch. Divergent Discourses : The Image of the Russian Woman Schoolteacher//Russian History. 1993. -Vol. 20 (1-4). -P. 109-123; Seregny S. J. Review article (Christine Ruane) / S. J. Seregny//Russian Review. 1996.-Vol. 55 (4). P. 513-514
- CunoecKuii В. Д. Избранные педагогические сочинения/В. Д. Сиповский. СПб.: Я. Башмаков иК, 1911.-314с
- Статистический временник Российской империи. Сер. 3,вып. 1: Сельские училища в Европейской России и Привислянских губерниях. СПб.: Изд-во ЦСК МВД, 1884. 304 с
- Статистический временник Российской империи. Сер. 3, вып. 4. СПб.: Изд-во ЦСК МВД, 1884. -90 с
- Статистический обзор начального образования в Пензенской губернии за 1913-14 у/г.-Пенза: Паровая тип.-лит. т-ва А. И. Рапопорт и К0, 1915. 175 с
- Стоютт В. Я. Педагогические сочинения/В. Я. Стоюнин. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911.-488 с
- Сухова О. А. Рост грамотности населения средневолжской деревни как фактор эволюции крестьянской ментальности/О. А. Сухова//Интеграция образования [Саранск]. 2007. № 2. -С. 58-63
- Терентъев А. А. Российская школа: становление, развитие, перспективы. Социально-философские проблемы/А. А. Терентьев. -Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 1997. 120 с
- Труды Первого Всероссийского съезда по семейному воспитанию. СПб.: Тип. Ныркина, 1914.-Т. 1.-672 с
- ЦГАСО (Центр, гос. арх. Самарской области). Ф. 360. Оп. 46. Д. 25
- ЦГАСО.-Ф. 372.-Оп. 1.-Д. 334