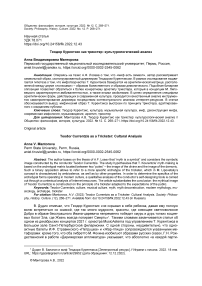Теодор Курентзис как трикстер: культурологический анализ
Автор: Манторова А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2022 года.
Бесплатный доступ
Опираясь на тезис А.Ф. Лосева о том, что «миф есть символ», автор рассматривает символьный образ, сконструированный дирижером Теодором Курентзисом. В рамках исследования выдвигается гипотеза о том, что мифотворчество Т. Курентзиса базируется на архетипической матрице, расположенной между двумя «полюсами» - образом божественного и образом демонического. Подобная бинарная оппозиция позволяет обратиться к более конкретному архетипу трикстера, который в концепции М. Липо-вецкого характеризуется амбивалентностью, а также иными свойствами. В целях определения специфики архетипических форм, действующих в современной культуре, проводится качественный анализ инструментов самопроектирования дирижера посредством контекстуального анализа интернет-ресурсов. В статье обосновывается вывод: мифический образ Т. Курентзиса выстроен по принципу трикстера, адаптированного к ожиданиям публики.
Теодор курентзис, культура, музыкальная культура, миф, деконструкция мифа, современная мифология, музыковедение, архетип, трикстер
Короткий адрес: https://sciup.org/149141942
IDR: 149141942 | УДК: 78.071 | DOI: 10.24158/fik.2022.12.43
Текст научной статьи Теодор Курентзис как трикстер: культурологический анализ
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, ,
,
В. Дудин отмечал, что Теодор Курентзис «не скрывал в себе ребенка, давая ему полную волю встретиться со сказкой, где так много мудрости, красоты, где сияющее светловолосое Добро в образе бесстрашного Ивана-царевича непременно победит хмурь и дурь топких кощеевых болот Зла, где Жизнь всегда попирает Смерть»1. Такими словами заканчивается статья об одном из декабрьских концертов 2021 г. оркестра MusicAeterna под управлением Т. Курентзиса в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. С одной стороны, неудивительно, что одноактные балеты И.Ф. Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица» сопровождаются указанными метафорами: кроме того, что оба либретто М. Фокина изобилуют образами русских сказок, Г.Н. Рождественский в работе «Дирижерская аппликатура» указывает, что абсолютно «в каждой парти- туре Стравинского (включая опусы последних лет) можно услышать интонации русского фольклора» (1974: 8). Однако, с другой стороны, язык статьи тяготеет к мифологической интерпретации реальности и в отношении персонажа, изначально к сказочной действительности не принадлежащего, – самого Т. Курентзиса. Контекстуальный анализ биографического дискурса показал, что специфику самопрезентации дирижера определяет ряд черт, присущих мифу, по А.Ф. Лосеву (Манторова, 2022: 202). Сделанные выводы способствовали формированию дальнейшей стратегии исследования, заключающейся в попытке определить наиболее точные образы в рамках архетипической матрицы, поскольку именно архетипы, по К.Г. Юнгу, являются «активно действующими установками, определяющими мысли, чувства и действия человека» (1996: 67), т. е. одними из основных структурных элементов мифа в целом.
Отправной точкой исследования данной матрицы стоит обозначить анализ заголовков статей о Т. Курентзисе, которые сами по себе уже формируют своеобразный архетипический «тезаурус»: «Страсти по Курентзису»1; «Здесь пахнет ладаном2»; «Кехман обозвал Курентзиса Иудой3»; «Черный принц: загадочный дирижер Теодор Курентзис»4. Указанные формулировки, также способствующие конструированию мифа в качестве многократных магических именований , так как «миф есть слово о личности» и «есть чудо», выявляют полярные образные позиции (Лосев, 2018: 266). Более того, прослеживается явная сюжетная параллель: с одной стороны, «обожествление» за счет узнаваемых вербальных формул («страсти по») и ассоциативных образов («пахнет ладаном»), с другой – «демонизация», как персонализированная и даже религиозная («Иуда»), так и литературно-метафорическая («Черный принц»). Данные наблюдения подтверждают тезис К.М. Рецовой о том, что современная мифология в отличие от архаической «испытывает влияние других форм освоения действительности (таких как наука, искусство и религия)» (Рецова, 2021: 585).
Выстраивающиеся мифологические связи с традиционными образами Христа, Иуды и импровизационными и несколько парадоксальными конструктами массовой культуры (Черный принц) иллюстрируют идею Г. Маркузе в работе «Одномерный человек», где персонажей с высокими нравственными идеалами всегда дополняют герои мятежные – «художник, проститутка, прелюбодейка, великий преступник или изгнанник, воин, поэт-бунтарь, дьявол, чудак – т. е. те, кто не зарабатывает самостоятельно на жизнь, по крайней мере общепринятым способом» (Маркузе, 1994: 76). Г. Маркузе рассуждает о литературе и не приводит указанных персонажей к единому и терминологическому знаменателю, что возвращает нас к тезису К.М. Рецовой о взаимном влиянии. В дополнение следует отметить еще одно важное отличие от структуры архаических мифов: как пишет А.А. Целыковский, архетипы современной реальности уже выражаются «не в явной форме, а в виде некоторого символьного образа» (2011: 13). Образы мифа Т. Курентзиса представлены здесь как результат коллективного мифотворчества зрительской аудитории, имеющего истоки в личном. Таким образом, можно выдвинуть предположение, что в процессе более детальной деконструкции указанного мифа обнаруживается конкретный символьный образ. Если и далее опираться на классификацию Г. Маркузе, Т. Курентзис определенно относится к числу «мятежных персонажей», что наглядно демонстрируют его ключевые инструменты самопроекти-рования: внешний облик и поведенческие практики, подкрепляемые презентацией в интервью. Рассмотрим их более подробно.
Относительно внешнего вида и манеры одеваться можно отметить, что в облике дирижера, вне всякого сомнения, наблюдается процесс маркирования определенных смыслов. Классификация Г. Маркузе здесь является удачной, поскольку противостояние Т. Курентзиса традиционным ценностям в первую очередь транслируется через его внешний вид, что неустанно подчеркивают СМИ: «Ни один из его коллег-дирижеров не мог бы позволить себе такой рискованной самопрезентации: нравы и воззрения в среде оркестрантов, несмотря на кажущуюся фривольность, весьма консервативные5». Речь идет о первом номере арт-журнала Desillusionist, где была помещена фотография Т. Курентзиса в образе падшего ангела: с обнаженным торсом и черными крыльями за спиной1. Стоит отметить, что данный жест не был единичным: в 2017 г. в журнале «Собака.ru» вновь появились снимки подобного плана под не менее дерзким заголовком «Как Теодор Курентзис спас классическую музыку»2. Но, что важно, подобную экстравагантность дирижер подчеркивает не только в многочисленных фотосессиях, но также на сцене и в повседневной жизни. Проанализировав ряд фотографий с различных концертов, можно выделить характерные черты: преобладающий черный цвет, узкие джинсы, рубашки сложного кроя, часто отсылающие деталями к моделям прошлых эпох (манжеты, широкие рукава, воротники; стилизация под мундиры), необычная обувь для сцены (часто берцы с высокой шнуровкой). В целом можно сделать вывод, что Т. Курентзис как персонаж мифологический не разграничивает свой сценический облик и повседневный, о чем, в свою очередь, свидетельствует его собственное признание в том, что одежду ему шьют в театре3. Что касается иных аспектов внешности, не меньший эффект в консервативной музыкальной и восприимчивой зрительской среде производит прическа маэстро: длинные волосы, периодически сменяющиеся выбритыми висками и другими экстравагантными формами, свойственными, как правило, представителям неформальных музыкальных направлений, нежели исполнителям классической музыки.
Таким образом, можно сделать вывод, что подобная репрезентация определенной информации, результатом которой является восприятие Т. Курентзиса как синтеза образов, обозначенных Г. Маркузе (художник, поэт-бунтарь, дьявол, чудак), в какой-то момент перешла в разряд символа. Незначительная на первый взгляд деталь внешнего вида дирижера на открытии Зальцбургского фестиваля летом 2017 г. сначала стала притчей во языцех, а затем проявилась в Дягилевском фестивале, для которого пермские керамисты специально изготовили соответствующие броши в виде ботинка с красными шнурками4. Таким образом, можно наблюдать, как в культурной среде возникает «явление, которое тут же указывает на определенную сущность, т. е. как-то содержит ее в себе» (Лосев, 2018: 279). Не менее интересна и другая деталь данного явления: более ранняя интерпретация красных шнурков на берцах заключается в том, что они принадлежат «нс-скинхеду, участвовавшему в “акции”, но никого не убившего», что, казалось бы, более чем вписывается в образ мятежного персонажа, однако данное значение быстро утратило силу рядом с новым персонализированным символом (Самойлов, 2016).
Так, мы переходим к анализу следующего инструмента самопроектирования, ключевыми моментами которого являются цитаты из разных интервью: в ряде из них Т. Курентзис называет себя «заключенным разбойником в монастыре прекрасного»5, говорит, что он «вампир» и ему «нельзя лук»6, в других же – противопоставляет себя таким исполнителям, как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, тем, что, когда они поют, ангелы не приходят, а когда играет он – «не всегда, но в большинстве случаев – да»7. Т. Курентзис постоянно перемещается между мифическими раем и адом, не предоставляя возможности зрителю однозначно отнести его к какой-либо из «сторон», что, несомненно, позволяет ему пользоваться широким диапазоном поведенческих практик и исполнительских концепций. С точки зрения М. Липовецкого, подобная амбивалентность является важной чертой архетипа трикстера, что вполне вписывается в образ мятежного персонажа (2009: 227). Способность трикстера маневрировать между смыслами наглядно иллюстрируют и две следующие ситуации: описывая рекламу, где известный танцовщик поет вместе с известным пианистом, Т. Курентзис обозначает ее как «эстетику зала “Россия”» и делает акцент на том, что он «слава Богу, не рядом с этой красотой»8. Вместе с тем буквально пару лет спустя дирижер появляется в аналогичной рекламе9. Кроме того, заявляя в другом интервью, что Пе- тербург креативные люди сейчас покидают, поскольку это «город, не самый подходящий для бо-гемы»1, именно туда отправляется после того, как уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Поведенческие паттерны, используемые Т. Курентзисом, совпадают и с рядом других черт, выделяемых М. Липовецким: лиминальность находит отражение в постоянных гастролях и неоднозначности национального самоопределе-ния2, художественный жест – в театрализации повседневных и профессиональных практик. Однако ключевое различие состоит в том, что трикстер, по М. Липовецкому, ориентирован в первую очередь на создание бинарных оппозиций и «демистифицирует претендующее на сакральность» (2009: 229), Т. Курентзис, напротив, стремится к максимальной мистификации, подчеркивает роль религии в контексте личного мировосприятия и вместе с тем имеет значительные амбиции креатора, так как тяготеет к созданию нового музыкального мира («я создаю территорию сво-боды»3, «я строю свой мир»4).
Таким образом, анализ инструментов самопрезентации позволяет сделать следующий вывод. С одной стороны, ряд практик и художественных жестов вырисовывает образ Т. Курентзиса в рамка архетипа трикстера в первую очередь за счет активной медиаторской позиции между двумя дискурсами музыкальной среды (классическим и неформальным). С другой стороны, активная позиция творца оставляет «контур» данного архетипа незамкнутым, что дает возможность создателю мифа о себе периодически дополнять и видоизменять ее в зависимости от контекста, на что в конечном счете и направлено мифотворчество в современном мире.
Список литературы Теодор Курентзис как трикстер: культурологический анализ
- Липовецкий М. Трикстер и "закрытое" общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 6. С. 224-245.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. СПб., 2018. 320 с.
- Манторова А.В. Миф Теодора Курентзиса: попытка деконструкции // Общество: философия, история, культура. 2022. № 5. С. 202-207.
- Маркузе Г. Одномерный человек / пер. с англ. А. Юдина. М., 1994. 368 с.
- Рецова К.М. Новая мифология: ответ на вызовы метамодерна // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2021. Т. 46, № 3. С. 584-591.
- Рождественский Г.Н. Дирижерская аппликатура. Л., 1974. 101 с.
- Самойлов С.Ф. Внешние признаки субкультуры участников праворадикального движения нс-скинхедов // Общество и право. 2016. № 1 (55). С. 258-262.
- Целыковский А.А. Современный миф как результат взаимодействия традиционной мифологии и идеологии // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 30 (245). С. 11-15.
- Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов / пер. с англ. В.В. Наукманова. К.; М., 1996. 384 с.